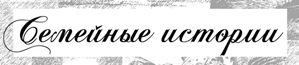 |
Постановление ЦК 46-го года "о журналах Звезда и Ленинград" прогремело на весь мир
Из Сарнова
Постановление ЦК 46-го года тоже прогремело на весь мир и имело не только, так сказать, внутриполитическое значение. Но на этот раз речь идет о том, что ее ночная встреча с Исайей Берлиным спровоцировала начало холодной войны . Ни больше ни меньше.
В кругу близких к ней людей эта тема возникала постоянно:
В первой половине марта 1964 г. запись о разговоре с Вадимом Андреевым (сыном Леонида Андреева) по поводу "Поэмы без героя", явно понравившемся Ахматовой:
"Вадим Леонидович Андреев сказал мне: "Я думал, что здесь есть тайна и я ее разгадаю. Нет, здесь нет тайны. Тайна - это вы. На его другое высказывание я ответила: "Я не стажируюсь на Елену Троянскую". (О холодной войне). Как известно, Ахматова видела в своей встрече с Исайей Берлином причину не только постановления 1946 г., предавшего ее анафеме, но и похолодания в отношениях между Советским Союзом и Западом.
(Анна Ахматова. Собрание сочинений. Том пятый. 2001. Стр. 389)
Тут уже впору заговорить не то что об "ахматовском мифе", но об ахматовской мании величия.
На самом деле, конечно, холодная война началась совсем не потому, что 16 ноября 1945 года Анна Ахматова встретилась в Фонтанном Доме с будущим сэром Исайей Берлином. Для начала холодной войны и у Сталина, и у Черчилля, произнесшего вскоре свою знаменитую Фултонскую речь , были свои причины и свои поводы. Но убеждение Ахматовой, что ее роковая встреча с Исайей Берлином тоже сыграла тут свою роль, было не таким уж безумным. Во всяком случае, не беспочвенным.
Перед тем как отправиться в свою командировку в Москву, Исайя Берлин получил личное - специальное - задание Уинстона Черчилля .
Задание это состояло в том, чтобы, вступив в контакт с самыми разными представителями советской культурной элиты, - преимущественно писателями, - выяснить их настроения и дать ответ на вопрос: можно ли иметь дело с этой страной? Есть ли какая-то надежда на ее движение к "свободному миру", или она больна безнадежной, неизлечимой болезнью?
Об этом задании, полученном им от Черчилля, сэр Исайя сам рассказал составительнице полного собрания сочинений А.А. Ахматовой Нине Валерьяновне Королевой , дважды приезжавшей (кстати, по его личному приглашению) в Лондон.
Выполнив - в той мере, в какой это ему удалось, - это спецзадание, сэр Исайя написал и направил в Форин Офис доклад, корректно озаглавленный "Литература и искусство в РСФСР". Оригинал этого доклада хранится в Британском государственном архиве. А копию его сэр Исайя и инспектор Ее Величества канцелярского отдела Британского государственного архива госпожа Энн Кроуфорд любезно предоставили Н.В. Королевой для публикации в Советском Союзе. Небольшой отрывок из этого доклада Нина Валерьяновна опубликовала во втором томе (книга первая) собрания сочинений Ахматовой. А полный его текст был опубликован сперва в журнале "Звезда" (2003, * 7), а потом в антологии "Анна Ахматова. Pro et contra?, т. 2).
Этот свой доклад Исайя Берлин отправил в Форин Офис осенью 1945 года. А 5 марта 1946 сэр Уинстон Черчилль в Фултоне (США) произнес свою знаменитую речь, положившую начало (так, во всяком случае, утверждают советские историки) холодной войне. В этой речи Черчилль говорил об угрозе тирании и тоталитаризма, исходящей от Советского Союза, который создал железный занавес - от Щецина на Балтике до Триеста на Адриатике.
То есть в конечном счете сэр Уинстон вынужден был прийти к печальному выводу, что болезнь, которой страдает советское общество, неизлечима, и наладить нормальные отношения с этим монстром нельзя.
Я далек от мысли, что к этому выводу он пришел под влиянием прочитанного им доклада Исайи Берлина. Тем более что доклад этот был, хоть и не внушающим особых надежд на эволюцию советского строя в сторону свободы и демократии, но скорее благожелательным, нежели призывающим к полному разрыву отношений. Завершался он все-таки в духе осторожного, сдержанного оптимизма:
Основная надежда на новый расцвет освобожденного российского гения заключается в еще не истощившейся жизненной силе, в здоровом любопытстве, в чудом не ослабленной морали и интеллектуальных потребностей этих людей, прошедших длинный, возможно, очень длинный путь, и, несмотря на понесенный ужасный ущерб и на цепи, связывающие их и сейчас, подающих большие надежды, демонстрируя гигантские достижения в использовании своих богатых материальных ресурсов и, по некоторым признакам, в искусстве и науках.
(Исайя Берлин. Литература и искусство в РСФСР. "Анна Ахматова. Pro et contra", т. 2. СПб. 2005. Стр. 46)
Приведя в своих воспоминаниях реплику Сталина: "Оказывается, наша монахиня принимает визиты от иностранных шпионов", сэр Исайя замечает:
То, что я никогда не работал ни в каком разведывательном учреждении, было несущественно: для Сталина все сотрудники иностранных посольств или миссий были шпионами.
В собственном смысле этого слова Берлин, конечно, шпионом (разведчиком) не был. Но - что было, то было.
Сталин об этом задании, которое Исайя Берлин получил от Черчилля, и о его докладе в Форин Офис, разумеется, ничего не знал. Но ему этого и не надо было знать, чтобы записать сотрудника Британской дипломатической миссии в шпионы. Ну и, конечно, на него не могло не произвести впечатления внезапное появление, - в том самом месте и в то самое время, где и когда "монахиня" принимала "иностранного шпиона", - сына Уинстона Черчилля (о чем, конечно, ему сразу же доложили).
На самом деле оно, - это внезапное появление, - было чистейшей воды случайностью и объяснялось весьма просто.
Рандолф приехал в Ленинград как журналист. Русского языка он не знал совсем. Ему был предоставлен переводчик. Но в этот день, - а это был, видимо, его первый день в Ленинграде, - переводчик куда-то запропастился, и безъязыкий, беспомощный Рандолф стал на присущем ему языке громко взывать о помощи. Дело было в гостинице "Астория", где он остановился. Вопли его услышала сотрудница и спутница Берлина мисс Бренда Трипп. Она помогла Рандолфу решить какие-то его бытовые проблемы и мимоходом сообщила, что здесь, в Ленинграде, находится Исайя Берлин. Рандолф радостно объявил, что Исайя, которого он прекрасно знает, вряд ли откажется хоть на день заменить ему отсутствующего переводчика. Мисс Трипп сообщила ему, где в этот момент мистера Берлина можно найти, и он тотчас же отправился на поиски. Не зная точного адреса Ахматовой, он прибег к способу, к которому, как он сообщил Исайе, в своей жизни прибегал уже не раз, и этот незатейливый способ и тут его не подвел: Исайя его услышал.
Нормальные спецслужбы все это, конечно, мгновенно бы выяснили. Но наши спецслужбы вовсе не были заинтересованы в выяснении истинного положения дел. Их интерес, напротив, состоял в том, чтобы напустить как можно больше туману и создать впечатление, что появление на сцене сына британского премьера было частью какой-то сложной провокации, разработанной британскими спецслужбами.
Да Сталин - с его маниакальной подозрительностью - никогда бы и не поверил, что это было просто такое вот дурацкое стечение обстоятельств. Если бы чекисты осмелились представить ему такую версию, он пришел бы в ярость и обозвал бы тех, кто ему ее подсунул, слепыми кутятами, а то и прямыми пособниками врага. Чем бы это для них кончилось, можно не гадать.
В. Мусатов, утверждая, что вовсе не встреча с Исайей Берлиным стала причиной сталинского гнева, обрушившегося на Ахматову, резонно замечает:
"Трудно предположить, что Сталин мог поверить в то, что Ахматова зачем-то потребовалась английской разведке. Что же касается интимной, амурной стороны вопроса, то для вождя она была слишком незначительным поводом для карательных мер политического характера.
( Владимир Мусатов . "В то время я гостила на земле". Лирика Анны Ахматовой. М. 2007. Стр. 442)
Рассуждение это может служить классическим примером нормальной человеческой логики. В самом деле: какой "советского завода план" могла выдать "иностранному шпиону" Ахматова? Какими государственными тайнами она владела?
Но у Сталина была своя логика.
В безумии Сталина, как уже было сказано, была своя система. И нельзя сказать, чтобы его логические построения так-таки не имели совсем уже никакого отношения к реальности.
В том-то и дело, что они по-своему тоже отражали реальность. Но это была реальность, которую создавал - и создал - он сам.
Ахматова действительно не владела никакими государственными тайнами. Но в том мире, в котором жил Сталин, - а это был отнюдь не иллюзорный, а вполне реальный мир созданный им самим, - она, безусловно, владела информацией, которая не подлежала разглашению, то есть являлась государственной тайной. И именно этой информацией и интересовался сотрудник британской миссии в Москве Исайя Берлин, - прекрасно, кстати сказать, отдавая себе отчетв том, что, пытаясь эту информацию добыть, он переходит границу дозволенного. Во всяком случае, дозволенного в той стране, в которой он имеет честь представлять свою:
Считается, что писатели должны находиться под особым наблюдением, так как имеют дело с опасной областью идей, и поэтому их надо ограждать от индивидуальных контактов с иностранцами более тщательно, чем других, не столь интеллектуальных профессионалов, таких как актеры, танцоры и музыканты, которых считают менее восприимчивыми к идеям и более защищенными от разлагающего влияния заграницы. Это разделение, намеченное службами безопасности, кажется правильным, так как только в разговорах с писателями и их друзьями иностранные гости (например, автор этой записки) могли встретить настоящее понимание работы советской системы в сфере частной и художественной жизни? Другие деятели искусства автоматически избегали касаться этой темы, самое обсуждение которой было опасным.
(Исайя Берлин. Литература и искусство в РСФСР. "Анна Ахматова. Pro et contra, m. 2. СПб. 2005. Стр. 32)
Тут есть некоторое противоречие. С одной стороны, утверждается, что писатели находятся под особым, более тщательным наблюдением спецслужб, чем "другие деятели искусства", то есть актеры, танцоры и музыканты. Выходит, они больше, чем эти последние, должны опасаться вступать в контакты с иностранцами и вести с ним приватные разговоры. На деле, однако, все наоборот. Почему-то именно с писателями оказалось легче вступать в контакт и получать от них нужную ему информацию.
Из этого можно заключить, что Берлин не в полной мере сознавал, какой опасности подвергает он Ахматову, отправляясь на неофициальную, ни с кем не согласованную и никем не санкционированную встречу с ней. Но из этого же отрывка видно, что кое-что он все-таки понимал. Так что мог бы семь раз подумать прежде, чем решился ее этой опасности подвергнуть.
Н. Королева комментирует это так:
По-видимому, любовь к стихам Ахматовой, интерес к живому классику русской литературы и неожиданность предложения ленинградского литературоведа В.Н. Орлова посетить Ахматову заставили дипломата забыть об осторожности. К тому же он был убежден в "защищенности" Ахматовой перед лицом советского государства ее великим талантом.
(Анна Ахматова. Собрание сочинений. Том второй. Книга первая. М. 1999. Стр. 506)
Другой биограф Ахматовой - Михаил Кралин - оценивает этот поступок Берлина куда более жестко:
Разве не понимал он, какой опасности подвергает Ахматову, явившись к ней в овечьей шкуре "литературоведа"? Не мог не понимать - 36-летний дипломат отнюдь не был мальчиком в таких вопросах. Но для Берлина как для политика было важнее выполнить поставленную перед ним задачу: собрать информацию о настроениях творчески мыслящей интеллигенции. Ахматова была крупной фигурой, известной на Западе, так что, можно сказать, что ему повезло - из встречи с ней можно было извлечь хороший результат. О последствиях его визита для Ахматовой он, вероятно, не слишком-то задумывался.
Не исключено, однако, что Ахматова оказалась жертвой в большой дипломатической игре двух разведок.
Хотя сам сэр Исайя Берлин утверждал, что он "никогда не служил ни в какой разведывательной организации", этот факт не имел существенного значения: "для Сталина все члены иностранных посольств или миссий были шпионами". И не мог он этого не знать, а значит, сознательно "подставил" Ахматову.
(Михаил Кралин. Сэр Исайя Берлин и "Гость из будущего". В кн.: Михаил Кралин. Победившее смерть слово. Томск. 2000. Стр. 209-210)
Предположение автора, что "Ахматова оказалась жертвой в большой дипломатической игре двух разведок", рассматривать всерьез, я думаю, не стоит. Отнесем его на счет повышенной эмоциональности, я бы даже сказал, запальчивости тона этой гневной кралинской филиппики, - нельзя сказать, чтобы совсем уж тут неуместного. В особенности если вспомнить, какими бедами обернулся для Ахматовой нежданный визит этого "Гостя из Будущего".
Для моей темы, казалось бы, только это и важно.
Но нельзя обойти и другой стороны этого сюжета, - к теме, которой я занимаюсь, вроде отношения не имеющей.
На самом деле и эту, мою тему тоже невозможно раскрыть, не поняв, как и почему встреча с Берлиным оказалась для Ахматовой таким потрясением. Как и почему, сознавая всю меру грозящей ей смертельной опасности, она пренебрегла ею и, ни о чем не думая и ни о чем не сожалея, опрометью кинулась в этот гибельный омут.
Время первого визита Исайи Берлина в Фонтанный Дом биографами Ахматовой расписано чуть ли не по минутам. Но я задержусь только на самых существенных его моментах.
Мы остановились на том, что в первые минуты их встречи Анна Андреевна "королевствовала".
С ней была ее знакомая, принадлежавшая, по-видимому, к академическим кругам, и несколько минут мы все вели светский разговор. Затем Ахматова спросила меня об испытаниях, пережитых лондонцами во время бомбежек. Я отвечал, как мог, чувствуя себя очень неловко, - веяло холодком от ее сдержанной, в чем-то царственной манеры себя держать.
(Исайя Берлин. История Свободы. Россия. М. 2001. Стр. 470)
Трудно сказать, как долго продолжалась бы эта церемонная светская беседа, но тут, как мы знаем, им на помощь пришел Рандолф Черчилль. Исайя вынужден был покинуть дам и выскочил во двор, чтобы предотвратить неуместное вторжение подвыпившего приятеля в комнату Ахматовой. А когда он вернулся?
Но прежде, чем рассказать, как и когда он вернулся (это произошло не сразу), надо сказать несколько слов о женщине, которая присутствовала при этой первой их встрече и которую Берлин счел "принадлежавшей к академическим кругам".
Это была Софья Казимировна Островская , о которой теперь уже точно известно, что она была сексотом , осведомителем, агентом НКВД, внедренным в окружение Ахматовой. Об этом сообщил в уже упоминавшейся и цитировавшейся мною статье генерал КГБ Олег Калугин , державший в своих руках трехтомное "Дело Ахматовой":
Ахматова была обставлена агентурой. Среди агентов, которые ее окружали, особой активностью отличались некая переводчица, полька по происхождению, и научный работник-библиограф (фамилии этих людей мне известны, но я предпочитаю, чтобы вы сами их нашли, если будете в этом заинтересованы).
(Олег Калугин. Дело КГБ на Анну Ахматову. В кн.: Госбезопасность и литература. На опыте России и Германии. (СССР и ГДР) М. 1994. Стр. 75)
Калугин в этой своей статье приводит выдержки из доносов этой, не названной им по имени переводчицы, "польки по происхождению". Биограф Ахматовой Михаил Кралин сопоставил эти тексты с отрывками из дневников С.К. Островской, опубликованных (за рубежом) после ее смерти, и, установив полную их идентичность, сделал такой неопровержимый вывод:
"Вопрос о принадлежности Софьи Казимировны Островской к славной когорте осведомителей, который давно не давал мне покоя, теперь получил документальное подтверждение. Сопоставление доносов, цитируемых в статье Калугина, и записей в дневнике Островской не оставляет на этот счет никаких сомнений, - другой "польки-переводчицы" в окружении Ахматовой в это время не было.
(Михаил Кралин. Победившее смерть слово. Томск. 2000. Стр. 205-208)
Те доносы Островской, выдержки из которых приводит Калугин, производят двойственное впечатление. С одной стороны, создается впечатление, что доносчица явно не хочет давать органам на свою "клиентку" компромат политического характера. Скорее даже наоборот, - она склонна подчеркивать ее политическую благонадежность:
Заботится о чистоте своего политического лица, гордится тем, что ей интересовался Сталин. Очень русская. Своим национальным установкам не изменяла никогда.
(Олег Калугин. Дело КГБ на Анну Ахматову. В кн.: Госбезопасность и литература. На опыте России и Германии. (СССР и ГДР) - М. 1994. Стр. 76)
С другой стороны, некоторые высказывания Ахматовой, приводившиеся в этих доносах, по тогдашним "правовым" нормам вполне могли трактоваться как антисоветские:
"Союз писателей - это идиотский детдом, где всех высекли и расставили по углам. Девочка Аня не хочет играть со всеми и кушать повидло!.
"Участь русской поэзии - быть на нелегальном положении. Печатают макулатуру - Симонова, а Волошина, Ходасевича, Мандельштама - нет".
(Там же)
Но главное даже не это.
Доносительница не могла не понимать, что и те ее доносы, в которых нет и тени политического компромата, где речь идет о вещах сугубо бытовых и на первый взгляд вполне невинных, тоже могут быть использованы против ее "клиентки", если потребуется сшить на нее какое-нибудь "Дело" - не политическое, так уголовное:
Знакомств у Ахматовой множество. Близких друзей нет. По натуре она - добра, расточительна, когда есть деньги. В глубине же холодна, высокомерна, детски эгоистична. В житейском отношении - беспомощна. Зашить чулок - неразрешимая задача. Сварить картошку - достижение.
Хорошо пьет и вино, и водку.
После выпивки Ахматова лезет целоваться, но специфично: гладит ноги, грудь, расстегивает платье. Отсутствие реакции ее раздражает и она томно приговаривает: "Я сегодня, лично, в меланхолическом настроении". Во многих отношениях беспомощно царственна: ничего не убирает за собой.
(Там же. Стр. 76-77)
Сегодняшнему читателю все это может показаться полной ерундой. Эко дело - не может зашить чулок и сварить картошку! Из таких донесений при всем желании ничего не сошьешь и не сваришь!
Но незадолго до того профессору Плетневу сшили дело, в котором фигурировало обвинение, что он будто бы кусал грудь своей пациентки. Профессора ославили извращенцем, сексуальным маньяком.
Все это было, конечно, высосано из пальца. А тут и придумывать ничего не надо: гладит ноги, грудь, расстегивает платье; ясное дело - извращенка!
А что до того, что в доносах "переводчицы" нет высказываний ее "клиентки" на политические темы, так, может, их нет потому, что Ахматова не больно доверяла этой своей собеседнице и сознательно избегала разговоров с ней на такие темы.
Но одно тут не вызывает сомнений. От каждой - буквально каждой - фразы каждого такого доноса веет не только вынужденной готовностью услужить органам, но и духом искреннего, неподдельного недоброжелательства доносчицы к объекту своих доносов.
Михаил Кралин, которому "вопрос о принадлежности Софьи Казимировны Островской к славной когорте осведомителей давно не давал покоя", когда загадка наконец разъяснилась, написал специальную работу, посвященную этому проклятому вопросу: "Софья Казимировна Островская - друг или оборотень?".
Вот вывод, к которому он в конце концов пришел:
Конечно, печально, что этот очерк приходится заканчивать описанием тех же темных дел, которые легли в его начало. Но такова была эта женщина - одновременно и друг Анны Ахматовой, и ее злейший недруг. Оборотень. Женщина с двойным дном. Когда-нибудь о Софье Казимировне Островской будет написана книга. Но я не жалею, что мне не придется быть ее читателем. С меня довольно и того, чему я был невольным свидетелем.
(Михаил Кралин. Победившее смерть слово. Томск. 2000. Стр. 241)
М. Кралин близко знал Софью Казимировну, не раз с нею встречался, беседовал. Немудрено, что ее образ в его очерке не столь однозначен, каким он представился мне, когда я читал короткие выдержки из ее доносов в статье Олега Калугина.
Но в данном случае это неважно.
Меня, в сущности, тут интересует только одно: как вышло, что в момент первой встречи Ахматовой с Исайей Берлиным рядом с Анной Андреевной оказалась эта женщина.
М. Кралин объясняет это так:
У Ахматовой было меньше трех часов в запасе, чтобы приготовиться к визиту "английского профессора". Что она делает? Прежде всего звонит своей приятельнице Софье Казимировне Островской и приглашает ее прийти и оказать услуги в качестве переводчицы, - на свой разговорный английский Ахматова не надеялась. Но только ли как переводчицу пригласила Ахматова Островскую? Постараемся войти в ее тогдашнее состояние. Выслушав просьбу Орлова, переданную ей в приказном тоне, Ахматова должна была прежде всего насторожиться. Для советских людей приватный визит иностранца был явлением из ряда вон выходящим, а уж для нее и подавно. Сына дома не было. У Пуниных была своя жизнь, свои комнаты, общаться с ними было сейчас не с руки, тем более что с Николаем Николаевичем Ахматова не разговаривала уже несколько месяцев. Софья Казимировна показалась ей наиболее удобной свидетельницей. Хотя Ахматова познакомилась с ней сравнительно недавно, только в сентябре 1944 года, эта женщина быстро сумела войти к ней в доверие. А кроме того, она была отлично воспитана, владела многими языками, могла, при случае, помочь по хозяйству и в то же время поддержать светскую беседу. Анна Андреевна набрала номер Островской и попросила ее приехать к ней как можно быстрее, объяснив суть дела. Та быстро все поняла и согласилась.
(Там же. Стр. 207)
Все эти объяснения вполне резонны, и оспаривать их я не собираюсь. Я бы добавил к ним только еще одно предположение. Лучше даже сказать - догадку. Но об этом - потом, в свое время. А пока вернемся к Исайе Берлину, который, отделавшись от Рандолфа, вновь отправился в Фонтанный Дом.
Отправился он туда не сразу.
Орлова с ним уже не было, поэтому он вернулся в книжную лавку, взял у продавца номер телефона Ахматовой, позвонил ей, извинился, что так нелепо все получилось, и попросил разрешения прийти снова, чтобы продолжить едва начавшееся их общение. Она сказала:
- Приходите в девять часов.
Тут не очень ясно, назвал ли он в этом телефонном разговоре имя Рандолфа Черчилля или не назвал? Трудно представить, чтобы не назвал: как иначе мог бы он объяснить и чем извинить причину своего внезапного бегства?
Но если назвал, то самообладание Ахматовой в этом случае поистине поразительно. Хотя - она ведь исполняла некое распоряжение, отказаться от которого не могла. А о паническом бегстве В.Н. Орлова сэр Исайя ей вряд ли счел нужным докладывать.
Итак, второй визит Берлина в Фонтанный Дом начался в 9 часов вечера. Продолжался он два с половиной часа - до половины двенадцатого ночи.
Эта - вторая - встреча проходила уже в несколько ином составе. Не было Орлова. Но кроме "переводчицы польского происхождения", появилась еще одна приятельница Ахматовой. Берлин называет ее "ученой дамой, ученицей ассиролога Шилейко , второго мужа Ахматовой". Кралин поясняет, что "это была Антонина Михайловна Розен , археолог, женщина очень любимая Ахматовой, которая обычно называла ее просто "Антой"". Примерно в это же время появился и Лев.
Тут свидетельство сэра Исайи вступает в некоторое противоречие с тем, как представляется дело Кралину, опирающемуся на свидетельства С.К. Островской. Берлину помнится, что Лев Николаевич присоединился к компании в три часа ночи. Островская утверждает, что он пришел гораздо раньше - к ужину.
По воспоминаниям Берлина, ужин состоял только из вареной картошки. Островской дело помнится иначе, и тут, я думаю, ей можно верить, поскольку в приготовлении этого ужина она принимала самое активное участие:
Ужин, по словам Софьи Казимировны, был скромным, но все же состоял не из одного блюда вареной картошки. Дамы постарались, зная на этот раз о приходе гостя заблаговременно, и к его приходу на столе уже были: только что сваренная картошка, квашеная капуста, селедка и водка, а также чай и сахар. Конечно, и папиросы: Ахматова и Островская были в то время завзятыми курильщицами. Пикантность ситуации заключалась в том, что участников ужина было пятеро, а рюмок только четыре. Поэтому выпивали, как выразилась Софья Казимировна, "с выходным": "То Лёва уйдет на кухню, то я". Лёва злился и назвал Берлина (на кухне) - "этранжер проклятый", привычно картавя.
(Там же. Стр. 15)
Эти подробности придают свидетельствам С.К. Островской аромат достоверности, и они, конечно, кое-что добавляют к скупым и даже суховатым воспоминаниям сэра Исайи. Но для нас все-таки главный интерес представляют не подававшиеся за тем ужином блюда и не количество рюмок, стоявших на столе, а содержание шедшей за тем столом беседы. По воспоминаниям сэра Исайи выходит, что площадку держала, - во всяком случае, на первых порах, - Антонина Михайловна, засыпавшая его "многочисленными вопросами об английских университетах и их организации. Ахматовой это было явно неинтересно, она молчала". Реплика эта ясно говорит, что и во время второй встречи дамы держались с "англичанином" с некоторой осторожностью, скользких тем избегали: "Жомини да Жомини, а об водке - ни полслова".
Лед первой встречи, однако, уже слегка подтаял. Он, собственно, стал таять сразу, как только выяснилось, что "английский профессор" свободно говорит по-русски, и, надо полагать, растаял совсем, когда "англичанин" сообщил, что родился он в Риге, а детские годы его прошли в Санкт- Петербурге.
За ужином Софья Казимировна показала Берлину заранее принесенный ею отрывок из ахматовской "Поэмы без героя", начало которой взялась переводить на английский Татьяна Гнедич . Он просмотрел рукопись и указал на несколько ошибок. Это тоже слегка поспособствовало таянию льда.
Ничто, однако, пока не предвещало того, что случилось потом.
А потом случилось вот что.
Антонина Михайловна объявила, что ей пора домой. Но дело шло уже к полночи, и она:
"не решилась в столь поздний час одна добираться до Большого проспекта Петроградской стороны, где она жила, а отправилась ночевать к Островской на улицу Радищева. Исайя Берлин сам вызвался сопроводить обеих дам. От Фонтанного Дома до улицы Радищева примерно полчаса пешего ходу, так что наш джентльмен мог за час сходить туда и обратно и к часу ночи вернуться в квартиру Ахматовой. Дальнейшая их беседа продолжалась с глазу на глаз до 3 часов ночи. В это время, если верить сэру Исайе, "отворилась дверь, и вошел Лев Гумилев". После разговора с "этранжером" Гумилев пошел спать, а они продолжали беседу, которая "затянулась до позднего утра следующего дня".
(Там же. Стр. 216)
И тут ее словно прорвало.
Сперва она стала расспрашивать Берлина о близких ей людях, оказавшихся за границей, с которыми давно потеряла связь. Об Артуре Лурье, Борисе Анрепе, Саломее Гальперн (Андрониковой). Вспомнила Модильяни, рассказала о своих отношениях с ним. Потом вдруг ударилась в воспоминания о детстве. Рассказала о трагической судьбе Николая Степановича Гумилева. Вспомнила погибшего в сталинских лагерях Мандельштама и со слезами на глазах долго говорила о постигшей его ужасной участи. Рассказала и о своей жизни, "запрещенного и отверженного поэта". Стала читать ему свои стихи. И не только из "Anno Domini" и "Белой стаи", а - из "Реквиема"! Да-да, из того самого "Реквиема", каждую новую строчку которого она, дав прочесть даже самому близкому человеку и заставив выучить наизусть, тотчас же привычно сжигала над пепельницей.
С ума она сошла, что ли?
Так раскрыться перед человеком, которого видит первый раз в жизни и о ком, в сущности, ничего не знает? Мало того - перед иностранцем!
О том, как советскому человеку надлежит держаться с иностранцами, Ахматова знала лучше, чем кто другой. Вспомним ее отчетливое поведение на встрече с английскими студентами в 1954 году.
Этого сюжета я уже касался в главе Сталин и Зощенко . Но сейчас есть смысл рассмотреть его подробнее. И не глазами Зощенко, как в той главе, а глазами Анны Андреевны.
Вот ее собственный рассказ о том, как это было, услышанный и записанный Лидией Корнеевной Чуковской :
"рассказала мне увлекательнейшую новеллу - происшествие четырехдневной давности:
- Я позвонила в Союз, Зуевой, заказать билет в Москву. Ее нету. Отвечает незнакомый голос. Чтобы придать своей просьбе вес, называю себя. Боже мой! Зачем я это сделала! Незнакомый голос кричит: "Анна Андреевна! А мы вам звоним, звоним! Вас хочет видеть английская студенческая делегация, обком комсомола просит вас быть!. Я говорю:
- больна, вся распухла!. (Я и вправду была больна.) Через час звонит Катерли: - вы должны быть непременно, а то они скажут, что вас удавили. (Так прямо по телефону всеми словами.) Я предложила выход: найти какую- нибудь старушку и показать им. Вместо меня. Но они не согласились.
(Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 1952-1962. Том второй. М. 1997. Стр. 92-93)
Рассказ, как пишет Чуковская, о событии четырехдневной давности. За минувшие четыре дня Анна Андреевна уже слегка успокоилась и рассказывает о случившемся "в тоне юмора". Но в тот момент ей, надо полагать, было не до юмора. Услышав о предстоящей встрече с англичанами, от которой ей уже не отвертеться, она испугалась. Так же, наверно, как и в тот момент, когда ей позвонил В.Н. Орлов, готовя ее к визиту "английского профессора". Одно общее, во всяком случае, тут несомненно: и в том, и в другом случае встретиться с пожелавшими ее видеть иностранцами ее обязали.
Продолжение рассказа Анны Андреевны, записанного Л.К. Чуковской, выдержано в том же "тоне юмора", но по мере развития сюжета ее юмор гаснет и на первый план выступает драматизм, можно даже сказать, некая кафкианская жуть происходящего:
За мной прислали машину, я поехала. Красный зал, знакомый вам. Англичан целая туча, русских совсем мало. Так сидит Саянов , так Зощенко , так Дымшиц , а так я. Еще переводчица, девка из ВОКСа - да, да, все честь честью. Я сижу, гляжу на них, вглядываюсь в лица: кто? который? Знаю, что будет со мной катастрофа, но угадать не могу: который спросит? Сначала они расспрашивали об издании книг: какая инстанция пропускает? долго ли это тянется? чего требует цензура? Можете ли вы сами издать свою книгу, если издательство не желает? Отвечал Саянов. Потом они спросили: изменилась ли теперь литературная политика по сравнению с 46 годом? отошли ли от речи, от постановления? Отвечал Дымшиц. Мне было интересно услышать, что нет, ни в чем не отошли. Тогда отважные мореплаватели бросились в наступление и попросили m-r Зощенко сказать им, как он относится к постановлению 46 года? Михаил Михайлович ответил, что сначала постановление поразило его своей несправедливостью, и он написал в этом смысле письмо Иосифу Виссарионовичу, а потом он понял, что многое в этом документе справедливо. Слегка похлопали. Я ждала. Спросил кто-то в черных очках. Может быть, он и не был в очках, но мне так казалось. Он спросил, как относится к постановлению m-me Ахматова? Мне предложили ответить. Я встала и произнесла: "Оба документа - и речь товарища Жданова, и постановление Центрального Комитета партии - я считаю совершенно правильными".
Молчание. По рядам прошел глухой гул - знаете, точно озеро ропщет. Точно я их погладила против шерсти. Долгое молчание. Потом кто-то из них спросил: "Известно ли вам, что у нас пользуются большой популярностью именно те произведения m-me Ахматовой, которые здесь запрещены?" Молчание. Потом кто-то из русских сказал переводчице: "Спросите их, почему они хлопали Зощенке и не хлопали m-me Ахматовой?" "Ее ответ нам не понравился" - или как-то иначе: "нам неприятен".
Мне было неприятно, что наши тоже стали называть меня "madame Ахматова". "Товарищ Ахматова" или даже Ахматкина гораздо лучше. В "madame" заключена смрадная мысль, будто существует некто "monsieur Ахматов".
(Там же. Стр. 93-94)
Вопрос, казалось бы, исчерпан. Но год спустя они вновь вернулись к этому сюжету.
Запись, приведенная выше, помечена 8 мая 1954 года. А под этой стоит дата: 19 июля 1955:
"Я рассказала Анне Андреевне о письме, полученном Лидией Николаевной Кавериной от жены Зощенко. Жена Зощенко пишет, что Михаил Михайлович тяжело болен, отекают ноги, отсутствие работы сводит его с ума. Из "Октября" ему вернули рассказ, в Союзе - в Ленинграде - разъяснили, что печатать его не будут.
Анна Андреевна сказала:
"Михаил Михайлович человек гораздо более наивный, чем я думала. Он вообразил, будто в этой ситуации можно что-то им объяснить: "сначала я не понял постановления, потом кое с чем согласился". Кое с чем! Отвечать в этих случаях можно только так, как ответила я. Можно и должно. Только так.
Не повезло нам: если бы я отвечала первой, а он вторым, - он, по моему ответу, догадался бы, что и ему следовало ответить так же. Никаких нюансов и психологии. И тогда гибель миновала бы его. Но его спросили первым.
(Там же. Стр. 154-155)
К этой записи Л.К. Чуковская сделала такую сноску:
Главной причиной, по которой А.А. ни в коем случае не могла отвечать "по правде", была судьба Левы.
(Там же)
Совершенно очевидно, что сноска эта продиктована желанием Лидии Корнеевны если не "обелить" Анну Андреевну, так, по крайней мере, смягчить возможные упреки в ее адрес. Как видно, и у нее самой кошки скребли на душе из-за того, что А.А. в этой истории выглядит менее достойно, чем Зощенко. Не исключено, что и Анна Андреевна испытывала некоторый моральный дискомфорт, сознавая, что наивный "Мишенька" в этой истории не только у английских студентов, но и у некоторых сограждан вызовет больше симпатий, чем она со своим однозначным ответом.
Что говорить! Лидия Корнеевна, конечно, не обманывалась, предполагая, что одной из причин, по которой Анна Андреевна не могла отвечать "по правде", была судьба Левы. Но главная причина, заставившая ее ответить так, как она ответила, все-таки была другая. И она не кривила душой, не делала bonne mine au mauvais jeu, говоря, что "отвечать в этих случаях можно только так, как ответила я. Можно и должно. Только так!".
Конечно, за девять лет, миновавшие со дня визита к ней Исайи Берлина, много всякого случилось в ее жизни. И конечно, за эти годы она набралась еще большего политического опыта. Но и тогда, в 1945-м, она уже достаточно хорошо усвоила главное правило поведения зэка в системе сталинского ГуЛАГа. Независимо от того, происходит дело в "малой зоне", то есть в каком-нибудь лагпункте, - или "на воле", но в границах так называемой "большой зоны", - правило это звучит одинаково: "Каждый шаг в сторону будет рассматриваться как побег. Конвой открывает огонь без предупреждения".
О том, что она прекрасно понимала это уже тогда, в 45-м, красноречиво свидетельствуют описанные сэром Исайей первые минуты их встречи.
Приводя это его описание, я вспомнил ироническую реплику Льва Гумилева, иногда обращаемую им к Анне Андреевне: "Мама, не королевствуй".
Да, склонность к "королевствованию" у нее, наверно, была. Но в этом случае она не "королевствовала". А если и "королевствовала", то на сей раз эта ее королевская поза была маской, за которой пряталось твердое знание, что "отвечать в этих случаях можно только так". Можно и должно. Только так.
Узнав, что ей предстоит официально одобренная - и даже предписанная - начальством встреча с английским профессором, она действовала в высшей степени разумно. Позвонила "переводчице" и попросила немедленно приехать. Почему именно ей? Я думаю, что не только потому, что, как говорит Кралин, та была "отлично воспитана, владела многими языками, могла при случае помочь по хозяйству и в то же время поддержать светскую беседу". Я думаю, что Анна Андреевна догадывалась, какую роль играет при ней эта новая ее приятельница. Во всяком случае, не исключала, что она такую роль играть может. На упреки разных друзей-приятелей, зачем, мол, она не откажет от дома такому-то или такой-то, ведь они же наверняка "стучат", Анна Андреевна неизменно отвечала, что лучше иметь в этом качестве "своих", хорошо знакомых, - тех, в отношении которых можно, по крайней мере, рассчитывать, что они не станут выдумывать про нее всякий вздор, а честно будут докладывать куда надо только то, что она действительно говорила.
Из этого можно заключить, что с новоприбывшим англичанином она собиралась держаться в точном соответствии с уже знакомым нам своим правилом. И в присутствии "переводчицы" именно так и держалась. И только потом, когда они остались одни, вдруг забыла о всяких правилах, - вернее, не забыла, а просто отринула их и стала "играть" не по правилам, а - "по душе".
Что же заставило ее так поступить?
Михаил Кралин, посвятивший этой их встрече специальное исследование, объясняет это особым шармом, которым обладал будущий сэр Исайя Берлин:
Он не был еще автором прославивших его на весь мир работ. Но он был уже человеком, блестяще владеющим искусством беседы, "спикером", говоруном, обладателем особого таланта, или даже своего рода профессии, нынче как будто сходящей на нет.
В русском девятнадцатом веке, так любимом Берлиным, среди людей подобного сорта современники особо выделяли Тютчева и Вяземского. В этом качестве последний даже попал в стихи Пушкина:
У скучной тетки Таню встретя,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.
Но в воспоминаниях сэр Исайя этому своему искусству почти не уделяет внимания. Он скромно почти ничего не пишет о себе, и в результате мы поневоле оказываемся разочарованными и не вполне понимающими Ахматову: а в чем, собственно, дело и почему она так расчувствовалась и разоткровенничалась перед каким-то иностранцем, впервые в жизни его увидев? А очевидно, было - чем, но сэр Исайя своих мужских тайн так и не выдал.
(Там же. Стр. 198)
К этому своему объяснению М. Кралин - для убедительности - сделал еще такую сноску:
Об особом искусстве "чарователя женщин", присущем Берлину, писала мне в одном из писем С.С. Андроникова , прекрасно его знавшая и видевшая в этом основную "разгадку" романа Берлина и Ахматовой.
(Там же)
Не собираясь подвергать сомнению ни присущее Исайе Берлину "блестящее искусство беседы", ни особый его дар "чарователя женщин", я все-таки основную разгадку их романа вижу в другом.
Разгадка их романа, я думаю, не в "мужских тайнах" сэра Исайи, и вообще не в нем, а - в ней.
Вторая (в сущности, даже уже третья) ночная их встреча проходила, как мы уже знаем, с глазу на глаз, без свидетелей. Но о том, что во время этой встречи происходило с ней ("в ней"), мы знаем хорошо. На этот счет у нас есть свидетельство самое точное и самое надежное из всех, какие только можно себе представить: ее стихи.
Их много. Но для начала я приведу только те, что были написаны (во всяком случае, если судить по датам, которые она сама под ними поставила) непосредственно в те дни.
Вот первое (оно помечено 26 ноября 1945 года):
Как у облака на краю,
Вспоминаю я речь твою.
А тебе от речи моей
Стали ночи светлее дней.
Так, отторгнутые от земли,
Высоко мы, как звезды, шли.
Ни отчаяния, ни стыда
Ни теперь, ни потом, ни тогда.
Но живого и наяву,
Слышишь ты, как тебя зову.
И ту дверь, что ты приоткрыл,
Мне захлопнуть не хватит сил.
Второе (если верить ее датировке) явилось на свет 20 декабря, то есть спустя почти месяц:
Истлевают звуки в эфире,
И заря притворилась тьмой.
В навсегда онемевшем мире
Два лишь голоса: твой и мой.
И под ветер с незримых Ладог,
Сквозь почти колокольный звон,
В легкий звон перекрестных радуг
Разговор ночной превращен.
И еще одно, явившееся в те же дни. Под ним дата - 11 января 1946 года:
Не дышали мы сонными маками,
И своей мы не знали вины.
Под какими же звездными знаками
Мы на горе себе рождены?
И какое кромешное варево
Поднесла нам январская тьма?
И какое незримое зарево
Нас до света сводило с ума?
Лирическая героиня этих ахматовских стихов ни на секунду не сомневается, что "кромешное варево", опьянившее ее и ее собеседника, в ту ночь им дано было испить обоим. И "незримое зарево", до света сводившее их с ума, тоже свело с ума их обоих. Но трезвый, холодно- почтительный тон, в котором вспоминает об этой их ночной встрече сэр Исайя, эту ее уверенность не то что не подтверждает, но даже опровергает.
В пьесе Михаила Булгакова "Бег", - даже не в самой пьесе, а в перечне ее действующих лиц, - есть такая авторская ремарка:
Барабанчикова, - дама, существующая исключительно в воображении генерала Черноты.
Так вот, похоже, что ночной собеседник автора процитированных выше ахматовских стихов тоже существовал исключительно в воображении Анны Андреевны Ахматовой.
Все это, впрочем, никакого значения не имеет, поскольку стихи не лгут. Они говорят правду о том, что творилось с нею. В них - правда ее души. И если уж вспоминать тут Булгакова, так лучше, наверно, вспомнить другую реплику - не из пьесы, а из большого, главного его романа:
Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож!
И не все ли в конце концов равно, поразила эта молния их обоих или только ее одну!
Удар этого "финского ножа" оставил в ее душе долго не заживающий и так до конца и не заживший шрам. И неутихающая боль от этого незажившего шрама вновь нахлынула на нее десять лет спустя, во время уже упоминавшейся мною их "невстречи" (хуже, чем "невстречи") 1956 года:
Таинственной невстречи
Пустынны торжества,
Несказанные речи,
Безмолвные слова.
Нескрещенные взгляды
Не знают, где им лечь.
И только слезы рады,
Что можно долго течь.
Еще одно стихотворение о той же "невстрече". К нему - эпиграф:
Несказанные речи
Я больше не твержу,
Но в память той невстречи
Шиповник посажу.
Отсюда и название всего цикла: "Шиповник цветет". А вот и само стихотворение:
Как сияло там и пело
Нашей встречи чудо,
Я вернуться не хотела
Никуда оттуда.
Горькой было мне усладой
Счастье вместо долга,
Говорила с кем не надо,
Говорила долго.
Пусть влюбленных страсти душат,
Требуя ответа,
Мы же, милый, только души
У предела света.
Презрительное - "пусть влюбленных страсти душат" - должно, видимо, означать, что узы, их связывающие, "сильней, чем страсть, и больше, чем любовь". Но это не сходится с концовкой первого стихотворения:
Шиповник Подмосковья,
Увы! При чем-то тут?
И это всё любовью
Бессмертной назовут.
Но что значит - "не сходится". Лирический цикл - не сборник задач по арифметике, где решение каждой задачи непременно должно сходиться с ответом.
Несколько строк из еще одного стихотворения того же цикла:
Мы встретились с тобой в невероятный год,
Когда уже иссякли мира силы,
Всё было в трауре, всё никло от невзгод,
И были свежи лишь могилы.
Без фонарей как смоль был черен невский вал,
Глухая ночь вокруг стеной стояла.
Так вот когда тебя мой голос вызывал!
Что делала - сама еще не понимала.
И ты пришел ко мне, как бы звездой ведом,
По осени трагической ступая,
В тот навсегда опустошенный дом,
Откуда унеслась стихов сожженных стая.
Под стихотворением - дата: 18 августа 1956.
Случайное ли это совпадение, или она сознательно поставила эту дату, чтобы обнажить связь той - роковой для нее - их встречи и столь же роковых ее последствий: ровно десять лет тому назад, в таком же августе появилось знаменитое постановление ЦК (оно было напечатано в газете "Культура и жизнь" 20 августа, а доклад Жданова был прочитан дважды: 15- го и 16-го.)
И, наконец, еще одно, быть может, самое многозначительное из всех стихотворений этого цикла.
К нему - эпиграф:
Против воли я твой, царица,
берег покинул.
("Энеида", песнь 6)
В автографе стихотворения к этому эпиграфу - рукой Ахматовой - карандашом добавлен еще один:
Ромео не было, Эней, конечно, был.
А. Ахматова
Это важное признание.
Итак, он - не Ромео. Он - Эней. А она, стало быть, не Джульетта, а - Дидона.
Как рассказывается в поэме Вергилия, Эней, бежавший из Трои, был гостеприимно принят в Карфагене царицей Дидоной, стал ее возлюбленным, но должен был, следуя велению оракула, бросить ее, чтобы отплыть в Италию и там основать Рим; покинутая Дидона сожгла себя на костре.
(Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы. Л. 1976. Стр. 489)
Это - комментарий, без которого читатель, не знакомый с "Энеидой" Вергилия, не сможет понять и оценить сокровенный смысл стихотворения.
А вот и само стихотворение:
Не пугайся, - я еще похожей
Нас теперь изобразить могу.
Призрак ты - иль человек прохожий,
Тень твою зачем-то берегу.
Был недолго ты моим Энеем, -
Я тогда отделалась костром.
Друг о друге мы молчать умеем,
И забыл ты мой проклятый дом.
Ты забыл те, в ужасе и в муке,
Сквозь огонь протянутые руки
И надежды окаянной весть.
Ты не знаешь, что тебе простили!
Создан Рим, плывут стада флотилий,
И победу славословит лесть.
Дата под стихотворением (1962) говорит, что с момента события прошло уже не десять, а целых семнадцать лет. Шрам зарубцевался. Но все еще болит. Особенно явственно эта боль отзывается в строке: "Ты не знаешь, что тебе простили!".
Но сперва надо объяснить, какой "Рим" основал сэр Исайя Берлин, семнадцать лет тому назад бывший "ее Энеем", какие "стада флотилий" знаменуют его "победу" и что представляет собой она сама, эта его "победа", которую "славословит лесть".
Слово это ("победа") я тут заключил в кавычки не только потому, что это цитата, но еще - и главным образом - потому, что Ахматова вложила в него немалую толику иронии. Хотя и победа сэра Исайи, и "стада флотилий", спущенных им на воду и бороздящих Мировой океан, на самом деле выглядят весьма внушительно:
После войны Берлин возвращается к преподавательской и научной деятельности, становится профессором в области социально-политических наук, президентом Вольфсоновского колледжа в Оксфорде (1966-1975), профессором Колледжа Всех Святых, президентом Британской Академии наук (1974-1978), почетным членом Американской Академии искусства и литературы, почетным доктором многих университетов мира (Кембридж, Колумбийский, Глазго, Гамбургский, Иерусалимский и др). За заслуги в области развития культуры Исайя Берлин получил от Ее Величества королевы Великобритании почетное дворянство и титул лорда. В 1979 году он был награжден Иерусалимской премией за развитие идей свободы.
В 1978 году издатель Генрих Арди выпустил четырехтомное собрание его сочинений. Первый том составила книга "Русские мыслители" социально-политические исследования и литературоведческие работы о русских писателях XIX века: "Россия и 1848 год", "Еж и лиса", "Герцен и Бакунин об индивидуальной свободе", четыре статьи "Замечательное десятилетие", статьи о русском народничестве, о Льве Толстом"
("Анна Ахматова. Pro et contra", т. 2. СПб. 2005. Стр. 806)
Вот он - его "Рим". Вот каковы были "стада" его "флотилий". Вот в чем состояла его победа.
А теперь - о том костре, которым "отделалась" она, сравнившая себя с Дидоной.
Вергилиева Дидона сожгла себя на реальном, настоящем костре. Но и тот костер, на котором сжигала себя Ахматова, был не только символическим. Он тоже был вполне реальным:
После постановления вскоре пришли за Левой . Он к этому времени уже отсидел первый срок, отвоевался и набрал груду медалей за взятые города, кончил за год университет и защитил диссертацию. Оба они расположились жить и в те годы, свободные от пунинского влияния, необычайно друг с другом дружили - мать и сын. Комната у них была одна, но по очередной инструкции в ее бумагах не рылись. На этот раз А.А. повела себя как простая баба: взвыла, запричитала, а когда гости ушли, уводя с собой ее единственного сына, она долго металась по комнате, хватала бумаги - к чорту стихи - всё из-за них! - и швыряла их в горящую печку. Драма "Пролог" попала в огонь с большими основаниями: вдруг они еще раз придут, как тогда к Осипу, - тогда они схватят "Пролог", и Леве не поздоровится - ведь он заложник! Заложников берут, чтобы обеспечить смиренно-разумное поведение тех, за кого они сидят. Зачем нужна эта писанина, если от нее только гибель?..
(Надежда Мандельштам. Об Ахматовой. М. 2007. Стр. 140)
Это подтверждают и воспоминания И.Н. Пуниной:
Леву арестовали 6 ноября, когда он зашел домой в обеденный перерыв. Обыск закончили скоро. Акума лежала в беспамятстве. Я помогла Лёве собрать вещи. Он попрощался с мамой, вышел на кухню попрощаться со мной, его увели. Старший из сотрудников, уходя, сказал мне:
- Пожалуйста, позаботьтесь об Анне Андреевне, поберегите ее.
Я остолбенела от такой заботы. Входная дверь захлопнулась. Я выпустила Аню, которой не велела высовываться из моей комнаты во все время обыска. Мы вместе с ней пошли и сели около Акуминой постели. Молчали.
Следующие дни Анна Андреевна опять все жгла.
(Воспоминания об Анне Ахматовой. М. 1991. Стр. 471)
Вот, значит, что (помимо всего прочего) означает эта ее строка:
Ты не знаешь, что тебе простили?
Сэр Исайя действительно этого не знал. А то, что знал, судя по его воспоминаниям, представлял себе весьма смутно:
Во время моего следующего посещения Советского Союза в 1956 году я не видел Ахматову. Пастернак сказал мне, что хотя Анна Андреевна и хотела со мной встретиться, ее сын, которого арестовали во второй раз вскоре после того, как я видел его, только недавно вышел из лагеря, и она поэтому опасалась встречаться с иностранцами. Особенно потому, что она объясняла яростные нападки на себя, по крайней мере частично, моей встречей с ней в 1945 году. Пастернак сказал, что она сомневается в том, что мое посещение причинило ей хоть какой-нибудь вред, но, поскольку она, видимо, была уверена в обратном и, кроме того, поскольку ей посоветовали избегать компрометирующих связей, она никак не может со мной встретиться. Она, однако, очень хотела, чтобы я сам позвонил ей. Это было небезопасным, поскольку ее телефон наверняка прослушивался, так же, впрочем, как и его собственный.
Он рассказал ей в Москве, что встречался с моей женой и со мной и нашел мою жену прелестной. Он сказал Ахматовой, что ему было очень жаль, что Ахматова не может с ней встретиться. Анна Андреевна будет в Москве недолго, и мне надо позвонить ей сейчас же.
- Где вы остановились? - спросил он меня.
- В британском посольстве.
- Ни в коем случае не звоните оттуда. Позвоните из телефона-автомата. С моего телефона тоже нельзя!. В тот же день позднее я позвонил Ахматовой.
- Да, Пастернак рассказал мне, что вы с женой в Москве. Я не могу увидеться с вами по причинам, вполне понятным вам. Сколько времени вы женаты?
- Недолго, - сказал я.
- Но когда именно вы женились?
- В феврале этого года.
- Она англичанка или, может быть, американка?
- Нет, она полуфранцуженка-полурусская.
- Так. Последовало долгое молчание.
- Очень жаль, что вы не можете увидеться со мной. Пастернак говорил, что ваша жена очаровательна. Опять долгое молчание.
(Исайя Берлин. История свободы. Россия. М. 2001. Стр. 484-485)
В другой раз об этой ее реакции сэр Исайя высказался с большей определенностью:
- Я вам расскажу эту историю. Ахматова на меня рассердилась под конец, потому что я женился: я не имел права этого делать. Она считала, что между ней и мной какой-то союз. Было понятно, мы никогда друг друга больше не увидим, но все-таки наши отношения святы, уникальны, и ни она, ни я больше ни на кого другого, понимаете ли, не посмотрим. А я совершил невероятную вульгарность - женился.
- Это действительно был крайне вульгарный поступок.
- Конечно, вульгарный. Этим я ее до известной степени рассердил.
(Диана Абаева-Майерс. Беседа с Исайей Берлиным. В кн.: Иосиф Бродский. Труды и дни. М. 1996. Стр. 90-91)
О том, что его женитьба была поступком "крайне вульгарным", и сэр Исайя, и его собеседница говорят с откровенной иронией. Ведь что бы там ни происходило в ту ночь между ним и Ахматовой, никакого обета безбрачия он ей не давал.
Но тут же - уже без тени иронии - он признается, что и с ним в ту ночь произошло нечто необыкновенно важное:
- Но эта встреча изменила мою жизнь.
- В каком смысле?
- Этот вечер, огромный! Поэтесса, ее стихи! От существования, от страдания, личности ее! Вся комбинация невероятной искренности и ума и этой царственности! Во всем этом было нечто уникальное!
- А в вас самом что-то изменилось?..
- Да, да, да! Я оказался лицом к лицу с особым человеком. Вся эта трагическая сдержанность, поэзия, искусство, страдания! Всего этого я не понимал до того. Все на меня надвинулось, каким-то образом комом на меня нашло все это! Я понял, что ее жизнь была какая-то уникальная. И на меня невероятное впечатление произвели ее гордость, героизм! Я тогда остался до одиннадцати часов утра. Ушел, как в чаду! И больше у нас отношений не было. Потом она приезжала в Оксфорд, потому что ей дали степень. Но так как яженился? Я с ней имел разговор в 56 году, когда я приехал со своей женой. Пастернак мне сказал: "Послушайте, Анна Андреевна тут, в Москве. Видеть она вас не может, потому что ее сын только что вернулся из ссылки, и она не хочет встречаться с иностранцами. Ей это очень опасно. Но по телефону с ней можно поговорить, потому что ее разговоры прослушиваются. Значит, они будут знать, что она говорит, поэтому безопасно, как это ни парадоксально. Я ей позвонил. Она сказала:
- Вы?.. Я говорю:
- Да!. Она сказала:
- Пастернак мне сказал, что вы женаты. Я сказал:
- это так.
- Когда вы женились?
- В этом году!. Длинное молчание. Потом:
- Ну что же я могу сказать? Поздравляю! очень холодным голосом. Я ничего не сказал. Потом она мне сказала:
- Ну что ж. Встретиться я с вами не могу, видите ли - и она мне кое- как объяснила. Я сказал:
- Я вас понимаю.
- Значит, вы женились? Да? Конец разговора. Я понял, что совершил преступление, - это было ясно. Это был 56-й год. Потом она приехала в Оксфорд. Я ее встретил в Лондоне, как только она приехала. Потом в Оксфорде я пригласил ее жить у нас, этого посольство не позволило, но она пришла обедать. С моей женой она была суперхолодна. Супер. Понимаете, лед.
(Там же. Стр. 91 - 93)
Эта вторая их встреча случилась в июне 1965-го, когда она приезжала в Оксфорд получать свою докторскую мантию. С того времени, как она узнала, что он женился, прошло, стало быть, девять лет. Но рана, которую он нанес ей своей женитьбой, была все так же свежа. Рассказывая об этой последней их встрече, сэр Исайя упомянул об одной характерной ахматовской реплике. Зная, что его жена из очень богатой семьи, его собеседница (это была Н.В. Королева ) спросила, что, собственно, это значит "они богаты". Как богаты? Как Ротшильды?
- О, что вы, - улыбнулся в ответ сэр Исайя. - Они гораздо богаче Ротшильдов.
И вот, посетив его дом, надо полагать, выглядевший и обставленный не хуже, чем дом Ротшильдов, Анна Андреевна уронила:
- Золотая клетка!
Подлинность этой истории подтверждает четверостишие, посвященное Исайе Берлину - последние посвященные ему ее стихотворные строки, под которыми стоит дата: 5 августа 1965:
Не в таинственную беседку
Поведет этот пламенный мост:
Одного в золоченую клетку,
А другую на красный помост.
Под впечатлением единственной своей встречи с Цветаевой Анна Андреевна сказала:
- По сравнению с ней я - тёлка.
Не стану доискиваться, какой смысл вкладывала она в эту свою уничижительную реплику. А вспомнил я ее тут потому, что приведенное ахматовское четверостишие как нельзя лучше ее опровергает. Ведь в нем выплеснулся тот же сгусток эмоций, который Цветаева - на свой лад - выразила в знаменитой своей "Попытке ревности":
Как живется вам с простою
Женщиною? Без божеств?
Государыню с престола
Свергши (с оного сошед),
Как живется вам - хлопочется -
Ежится? Встается? как?
С пошлиной бессмертной пошлости
Как справляетесь, бедняк?..
Как живется вам с товаром
Рыночным? Оброк - крутой!
После мраморов Каррары
Как живется вам с трухой
Гипсовой? (Из глыбы высечен
Бог - и начисто разбит!)
Как живется вам с стотысячной?
Вам, познавшему Лилит!
Рыночного новизною
Сыты ли? К волшбам остыв,
Как живется вам с земною
Женщиною, без шестых
Чувств?..
У Ахматовой нет этой бешеной страсти, этого горячечного "потока сознания", захлебывающегося скобками, восклицательными знаками, разрывающими чуть ли не каждую строку знаками тире и анжамбеманами. Так ведь прошло - ни мало ни много - двадцать лет. И вообще - другой темперамент, другой - не такой экстравертный, гораздо более закрытый характер. Но все, что выплеснула Цветаева в этой своей саркастической инвективе, обращенной к покинувшему ее возлюбленному, у Ахматовой содержится в одной ее короткой строке о том, кто променял возникшую между ними в ту ночь таинственную связь на "золоченую клетку".
Знает ли он - или узнает когда-нибудь, - какую цену она заплатила за ту их ночь?
За тебя я заплатила
Чистоганом,
Ровно десять лет ходила
Под наганом.
Ни налево, ни направо
Не глядела,
А за мной худая слава
Шелестела.
Но как ни велика и как ни страшна была эта цена, о том, как опрометчиво повела она себя в ту ночь, она никогда не жалела.
Более того: это стало - на всю ее будущую жизнь - чуть ли не главным предметом ее гордости.
"Так вывернуться наизнанку, так обнажиться, забыв о всяческой осторожности, об ответственности, наконец, перед собственным сыном"
Разве прочитанный "Реквием" не мог остановить Ахматову возможностью его повторения? Разве не понимала она, что творит?
У Анны Ахматовой было некоторое время подумать, покуда Исайя Берлин провожал ее приятельниц. Вечер миновал, этим можно было и ограничиться. И было право последнего выбора. Выбрать ночь - и остаться поэтом. Она выбрала ночь - и открыла дверь.
Ведь сегодня такая ночь,
Когда нужно платить по счету!
"В эту ночь она заплатила вперед по всем счетам на всю оставшуюся ей жизнь. Анна Ахматова, сделав в ту ночь смертельно опасный выбор свободного человека, живущего в тюрьме, сумела вырваться, не без помощи своего "Гостя из Будущего", но главным образом благодаря своей неукротимой Музе, в иные времена и пространства:
И время прочь, и пространство прочь!
Это был ее волевой выбор собственного будущего, это было
Холодное, чистое, легкое пламя
Победы моей над судьбой.
(Михаил Кралин. Победившее смерть слово. Томск. 2000. Стр. 221)
Поэзия, говорил Мандельштам, есть сознание своей правоты. Вот это сознание своей правоты и питало чувство ее снисходительного превосходства над тем, кому достался не "красный помост", а "золоченая клетка". См. "Дело на Ахматову" возобновляется в 1945 году
Ссылки: