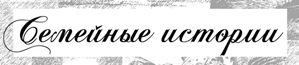 |
Ахматова узнала о постановления ЦК о журналах "Звезда" и "Ленинград"
Ахматова говорила, что, сколько она ни встречала людей, каждый запомнил 14 августа 1946 года, день постановления ЦК о журналах "Звезда" и "Ленинград", так же отчетливо, как день объявления войны.
(Ахматова без глянца. СПб. 2007. Стр. 342)
Можно предположить, что под словом "каждый" тут все-таки подразумеваются люди, входившие в узкий круг знакомых Анны Андреевны. Во всяком случае, в круг "читателей газет", интересующихся политическими новостями. Как можно сравнивать это с днем объявления войны, ставшей общенародной трагедией. Но тогда об этом громком постановлении говорили буквально все.
В тот день она по каким-то своим делам отправилась в Литфонд.
"Спокойная. Статная, плавно поднималась по деревянной литфондовской лестнице. Встречные почтительно и робко жались к стене, давая ей дорогу. Смущенные служащие, затаив дыхание, сидели потупившись. Аня Капорина, с полными слез глазами, разговаривала с ней. Окончив свои дела, А.А., как всегда, приветливо распрощалась и не спеша направилась к выходу. Лишь только за ней закрылась дверь, как горестный вздох удивления, восхищения и жалости пронесся ей вслед.
"Боже, какое самообладание! Подумайте, какая выдержка!" - поражались работники Литфонда.
Слух о ее приходе, полном спокойствия и царственном самообладании, побежал из комнаты в комнату, быстро перекинулся в здание Союза, перекочевывал из отдела в отдел.
О ней говорили с болью, восхищением и грустью. Говорили, что только она одна могла так по-королевски спокойно, с достоинством разговаривать и держаться после всего того, что случилось.
(Сильва Гитович. В кн.: Воспоминания об Анне Ахматовой. М.1991.Стр.504)
А на самом деле это ее королевское достоинство и царственное самообладание объяснялось тем, что она ничего не знала.
Утренних газет не видела, радио не включала. Лишь позже, может быть даже и не в тот день, увидав на улице группу людей, стоявших у газетного стенда, через их головы взглянула на газетный лист и только тут поняла, ЧТО на нее обрушилось.
И утром ничего не знала, когда ей звонили друзья и не очень близкие знакомые, справляясь о ее здоровье. И днем, когда "Мишенька" кинулся к ней со своими вопросом: "Что же делать, Анна Андреевна? Неужели терпеть?" Решила, что он взволнован какими-то своими семейными неурядицами. Очередной ссорой с женой, о плохих отношениях его с которой она что-то слышала.
А когда узнала, когда то, что с ней стряслось, наконец до нее дошло, - от всего этого ее самообладания не осталось и тени:
Когда появилось постановление, я помчалась в Ленинград. Открыла дверь А.А. Я испугалась ее бледности, синих губ. Молчали мы обе. Хотела ее напоить чаем, отказалась. В доме не было ничего съестного. Я помчалась в лавку, купила что-то нужное, хотела ее кормить. Она лежала, ее знобило. Есть отказалась. Потом стала ее выводить на улицу, и только через много дней она сказала: "Скажите, зачем великой моей стране, изгнавшей Гитлера со всей техникой, понадобилось пройти всеми танками по грудной клетке одной больной старухи?.
(Ф.Г. Раневская. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. М. 2006. Стр. 421)
За этой мимоходом брошенной Фаиной Григорьевной фразой ("В доме не было ничего съестного") тоже скрывается некий сюжет.
Конечно, такое могло случиться и раньше, и констатация эта могла бы восприниматься как отражение обычной неприкаянности Ахматовой, постоянной неустроенности ее быта. Но на этот раз дело было в другом.
На следующий месяц Акуме в Союзе писателей не дали никаких карточек . Она и не пыталась ни получить их, ни что-либо узнать.
До тех пор в Союзе писателей Ахматовой выдавалась рабочая карточка, лимит на 500 рублей, пропуск в закрытый распределитель на Михайловской ул., книжка для проезда на такси на 200 рублей в месяц. За ней было закреплено право на дополнительную комнату.
Дополнительную комнату отнять не могли, так как в то время уже вернулся с фронта Лёва Гумилев и жил в маленькой комнате. Все остальное просто не дали на следующий месяц.
( И.Н. Пунина . В кн.: Ахматова без глянца. СПб. 2007. Стр. 344)
Тем, кто не жил в то время, трудно, - наверно, даже невозможно, - представить себе, что это значило - оказаться без карточек в 1946 году. Скажу только одно: рабочая карточка давала право на получение восьмисот грамм хлеба в день. А без карточки буханку хлеба на рынке можно было купить за 100 рублей.
Через полтора месяца рабочую карточку Ахматовой все-таки вернули:
29-го сентября позвонили из Союза и велели прийти за ахматовской карточкой. Дали рабочую карточку за весь прошедший месяц. Я пошла с ней в "наш" магазин, но там "отоварить" карточку отказались: она не была "прикреплена". Потом мы пошли вместе с Лёвой второй раз. Снова отказали. Нас направили в дежурный магазин, около Казанского собора. Долго объяснялись. Лёва присел на бампер чьего-то автомобиля и отпускал меткие реплики. Наконец вышел заведующий и сказал, что мы можем все получить, но только теми продуктами, которые у них остались, а за хлеб - мукой. Завтра начинается другой месяц. Мы были на все согласны. Лёва подхватил мешок с мукой, я - сумки с другими продуктами" С тех пор А.А. давали одну рабочую карточку каждый месяц.
(И.Н. Пунина. Там же. Стр. 346-347)
Распоряжение не отлучать опальных писателей от "кормушки" , то есть не дать им умереть с голоду, поступило "сверху". Как говорили люди знающие, - с самого верхнего верха.
Документального подтверждения, что вернуть Ахматовой (и Зощенко тоже) продуктовые карточки распорядился сам Сталин, не имеется. Но слух такой был:
Писательская братия быстро отреагировала на это постановление и исключила Ахматову и Зощенко из Союза писателей . Писатели даже перестарались и лишили ее рабочей продовольственной карточки. Но это вызвало недовольство в верхах, и карточку Ахматовой возвратили.
По этому поводу в Москве вспоминали пророческую басню Крылова "Ослы на Парнасе".
(Л.В. Горнунг. В кн.: Ахматова без глянца. СПб. 2007. Стр. 344)
Вообще-то басня Крылова "Ослы на Парнасе" (на самом деле она называется просто "На Парнасе") с историей исключения из Союза писателей Зощенко и Ахматовой вроде никак не перекликается. Она совсем о другом:
** Когда из Греции вон выгнали богов
И по мирянам их делить поместья стали,
** Кому-то и Парнас тогда отмежевали;
Хозяин новый стал пасти на нем Ослов.
Ослы, узнав, что на месте их нового пастбища раньше обитали Музы, решили, что вполне смогут их заменить:
** Друзья, робеть не надо!
** Прославим наше стадо
** И громче девяти сестер
Подымем музыку и свой составим хор!..
И новый хор певцов такую дичь занес,
** Как будто тронулся обоз,
В котором тысяча немазаных колес.
Но чем окончилось разно-красиво пенье?
** Хозяин, потеряв терпенье,
** Их всех загнал с Парнаса в хлев.
К истории отъема и возвращения Зощенко и Ахматовой продовольственных карточек этот крыловский сюжет, стало быть, никакого отношения не имеет. Если не считать только одного-единственного, довольно часто поминавшегося в те времена словечка: "Хозяин".
Из этого можно заключить, что москвичи, вспоминавшие по этому случаю "пророческую басню Крылова", не сомневались, что укорот своим перестаравшимся холуям сделал не кто иной, как сам Хозяин.
Да в тех обстоятельствах это вряд ли и могло быть иначе.
Внедренные в окружение Ахматовой осведомители (или люди из ее окружения, завербованные органами НКВД) постоянно докладывали о ее состоянии, поведении, настроениях.
Вот одно из таких агентурных донесений:
Объект, Ахматова, перенесла Постановление тяжело. Она долго болела: невроз, сердце, аритмия, фурункулез. Но внешне держалась бодро. Рассказывает, что неизвестные присылают ей цветы и фрукты. Никто от нее не отвернулся. Никто ее не предал. "Прибавилось только славы, - заметила она. - Славы мученика. Всеобщее сочувствие. Жалость. Симпатии. Читают даже те, кто имени моего не слышал раньше. Люди отворачиваются скорее даже от благосостояния своего ближнего, чем от беды. К забвению и снижению интереса общества к человеку ведут не боль его, не унижения и не страдания, а, наоборот, его материальное процветание", - считает Ахматова. "Мне надо было подарить дачу, собственную машину, сделать паек, но тайно запретить редакции меня печатать, и я ручаюсь, что правительство уже через год имело бы желаемые результаты. Все бы говорили: "Вот видите: зажралась, задрала нос. Куда ей теперь писать? Какой она поэт? Просто обласканная бабенка. Тогда бы и стихи мои перестали читать, и окатили бы меня до смерти и после нее - презрением и забвением".
Узнав, что Зощенко после Постановления пытался отравиться, Ахматова сказала: "Бедные, они же ничего не знают, или забыли, ведь все это уже было, начиная с 1924 года. Для Зощенко это удар, а для меня - только повторение когда-то выслушанных проклятий и нравоучений".
( Олег Калугин . Дело КГБ на Анну Ахматову. В кн.: Госбезопасность и литература. На опыте России и Германии. (СССР и ГДР). М. 1994. Стр. 77)
Такая ее реакция "наверху" вряд ли могла понравиться.
Да и сами "сексоты", сообщая об этих ее высказываниях, порой не удерживались от оценок и характеристик такого ее поведения:
Пьем у Ахматовой. Ольга [Берггольц]. Матадор [Г. Макагоненко], я. По радио и в газете - сокращенная стенограмма. А. держится прекрасно и, пожалуй, даже бесстыдно. "На мне ничто не отражается". Сопоставляет 1922-1924 и теперь. Все то же. Старается быть над временем.
(Вестник РХД. Париж. 1989. * 156. Стр. 182)
Этот отрывок не из доноса, а из дневника. Автор дневника - С.К. Островская , та самая, уже известная нам "переводчица польского происхождения".
Совершенно очевидно, что эта дневниковая запись представляет собой конспект процитированного выше доноса. А может быть, наоборот: процитированный выше донос представляет собой более обстоятельное изложение ахматовских высказываний, о которых коротко, конспективно упоминается в этом дневниковом отрывке. Сути дела это не меняет. Интересно тут другое - вот эта фраза, которой доносчица характеризует поведение Ахматовой: "Держится прекрасно и, пожалуй, бесстыдно".
Оценка эта замечательна своей, так сказать, амбивалентностью. С одной стороны - как будто искреннее восхищение "королевским самообладанием" Ахматовой, а с другой - видимо, такое же искреннее убеждение, что в данных обстоятельствах это ее "королевское самообладание" - "бесстыдно". Не так, совсем не так должен вести себя советский человек, подвергнутый суровой партийной критике с высокой - самой высокой! - партийно-государственной трибуны.
С официальной точки зрения такое беспечное и даже полупрезрительное отношение Ахматовой к обрушившейся на ее голову гражданской казни было, конечно, верхом бесстыдства. Но в конце концов, мало ли что они там болтают между собой за рюмкой водки! Как стали они говорить в более поздние, совсем уже цинические времена: "Нэхай клевещут!"
Хуже было другое.
Советский человек на партийную критику, - а тем более, на критику, прозвучавшую с такой трибуны! - обязан был реагировать. Он должен был покаяться. Признать свою вину. В крайнем - самом крайнем! - случае сказать, что он еще не все до конца осознал, но будет думать, постарается осмыслить, понять. (Как сделал это в свое время молодой Шостакович .)
А она - молчала.
Зощенко писал Щербакову , потом (дважды) Сталину.
Постановление ЦК 46-го года не могло не затронуть и Пастернака.
Затронуло оно его краем, и он в этом случае совсем не обязан был писать "наверх" (пусть даже и не на самый верх) какие-то письма и объяснительные записки.
Но вопрос о том, что не худо бы и ему как-то на все это отреагировать, - обсуждался:
"Корней Иванович послал меня к Борису Леонидовичу за срочно понадобившейся книгой. Увидя меня сверху, Пастернак шумно со мной поздоровался и попросил обождать на веранде внизу, пока он книгу найдет. Ко мне вышла Зинаида Николаевна . Борис Леонидович задержался, и мы пробыли минут 10 с глазу на глаз. Она завела речь о какой-то очередной газетной вылазке против Бориса Леонидовича.
- Как вы думаете, - спросила меня вдруг Зинаида Николаевна весьма доверительно, хотя мы были едва знакомы, - не следует ли Боре написать письмо "наверх", кому именно и какое?
- Не знаю, - сказала я. - Письма писать "наверх", я думаю, и неприятно и бесполезно. Ведь все, что совершается "внизу" - все идет "сверху". В таких случаях, я думаю, достойнее всего молчать. Ведь поливают же Ахматову грязью, а она писем "наверх" не пишет.
- Нашли с кем сравнивать, - с раздражением ответила Зинаида Николаевна. - Боря человек современный, насквозь советский, а она нафталином пропахла!.
Состоялся мой разговор с Зинаидой Николаевной, судя по другим моим дневниковым записям о Пастернаке, 25 июня 1947 года.
(Лидия Чуковская, Записки об Анне Ахматовой. Том второй. М. 1997. Стр. 741)
Из этого рассказа Лидии Корнеевны с несомненностью вытекает, что молчание Анны Андреевны было вызвано отнюдь не растерянностью, или нерешительностью, или незнанием, как в таком случае надлежит поступать. Это был результат хорошо обдуманного, выношенного, сознательно принятого решения.
И она, конечно, не могла не знать, что это ее демонстративное молчание замечено и соответствующим образом оценено:
Меня как редактора и как члена Союза советских писателей удивляет теперь то, что Ахматова сейчас молчит. Почему она не отвечает на мнение народа, на мнение партии? Неправильно ведет себя, сугубо индивидуалистически, враждебно.
( Всеволод Вишневский . Выступление на заседании президиума Правления ССП. "Литературная газета". 7 сентября 1946 г. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. М. 2008. Стр. 423)
Всеволод Вишневский был не просто членом Союза советских писателей и не просто редактором. Он был "из присматривающих". И из самых видных присматривающих.
Его устами Ахматовой было внятно сказано, чего от нее ждут. Теперь она уже не могла сказать, что не догадывалась, как в этих обстоятельствах ей надлежит поступить. А слово "враждебно" не оставляло сомнений в том, как будет в дальнейшем рассматриваться ее молчание.
За всем этим, конечно, стоял Сталин.
Нестандартное, "неправильное" поведение Ахматовой его раздражало. Не зря ведь он - как раз в это самое время! - стал вдруг интересоваться:
"А что дэлает монахыня?"
Вишневский, подавая Ахматовой свой сигнал, весьма прозрачно дал ей понять, КТО ждет, чтобы она наконец нарушила свое гордое молчание. Но она то ли не поняла, то ли сделала вид, что не понимает.
И тогда Сталин решил оказать на нее более сильный нажим.
См. 4 "КИДАЛАСЬ В НОГИ ПАЛАЧУ"
Ссылки: