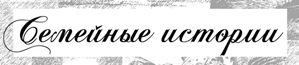 |
Мария Будберг заставляет Горького написать "Воспоминания о Ленине" и с
отъезду в Россию "Ты мог бы о "Беседе" написать Ильичу",- говорит ему Максим, но Ленину писать бессмысленно: у него был очередной удар, он парализован и потерял дар речи, это все знают, и не только из газет, но и из писем Ек. П., и, когда Ленин умирает (24 января 1924 года), от нее приходит телеграмма.
Мура не дает ему проливать слезы, она считает лучшей терапией - труд, и, как позже писал Ходасевич: "Чуть ли не на другой день Мура его засадила писать воспоминания о Ленине - были все основания рассчитывать, что их переведут на многие языки. Едва он их кончил, из Берлина, как будто случайно, приехал заведующий "Международной книгой" Крючков. Алексею Максимовичу доказали, как дважды два, что буревестник революции обязан высказаться о великом вожде революции, т. е. ради такого случая он должен нарушить зарок и разрешить печатание воспоминаний в России. Крючков увез с собой рукопись, которую в СССР подвергли жесточайшим цензурным урезкам и изменениям". Но эти урезки и изменения были ничто в сравнении с последующими изменениями, сделанными самим Горьким под давлением вдовы Ленина Крупской . Всего имеется около шести - семи версий этой статьи, которая называлась и "Воспоминания о Ленине", и "Памяти Ленина", и "В. И. Ленин": 1924 год в "Русском современнике"; 1924 год - отдельным изданием; 1926-31 годы в "Наших достижениях"; 1927 год - изд. "Книга", Берлин; 1927 год - том 19 собрания сочинений под редакцией Луначарского и Груздева, "Книга - Госиздат"; 1928 год - том 20 собрания сочинений, Госиздат; 1930 год - том 22 собрания сочинений, Госиздат. Изменения разнятся между собой иногда двумя- тремя словами, а иногда целыми абзацами. Последние перемены были сделаны Горьким в 1930 году, когда он писал Крючкову, что "после письма Н. Крупской" он "лихорадочно переписывает воспоминания о Ленине", меняя их до неузнаваемости.
Венок Ленину был заказан по телеграфу и надпись на ленте послана вдогонку, с наказом Ек. П. сделать, что нужно. Она исполнила все, с той добросовестностью, с которой она всегда исполняла его поручения и до, и после разрыва с ним. Смерть Ленина не только встревожила Горького, но и в корне переменила его отношение к нему. В первый раз он полностью почувствовал его величие, когда Ленин был ранен Дорой Каплан 30 августа 1918 года. В тот момент, когда Горький узнал о покушении, все его обиды, связанные с Зиновьевым , исчезли, и он признал, что Ленин был во всем прав, а он, Горький, со своими мелкими спорами с председателем Петрокоммуны, во всем не прав. Теперь опять то же чувство раскаяния нашло на него. "Величайший", "гениальнейший" умер, и он ощутил свое сиротство, зловещий дух будущей неизвестности и сожаления о прошлом.
Разумеется, статья о Ленине была дана Крючкову, и он немедленно выехал с ней в Берлин. У Муры перед его отъездом был с ним долгий деловой разговор: не все шло гладко с иностранными изданиями в Европе и США. Надо было подумать о будущих финансах. Было ли у них предчувствие, что платежи Парвуса могут прекратиться? Каждый раз, как Ладыжников сообщал о получении Дрезденским банком очередной суммы, по дому проходил вздох облегчения. Но не только с Крючковым у Муры был важный разговор. Он был у нее и с Ходасевичем . Однажды вечером, после того как все разошлись по своим комнатам, они остались вдвоем сидеть на двух жестких стульях у пустого стола в той комнате, в конце коридора, которая не имела названия и служила утром для утреннего завтрака (обедали внизу, в огромной пустой столовой Гостиницы), а днем для Максима и Тимоши. где они раскрашивали картинки. Здесь иногда лежал на трех стульях Соловей, здесь мы с Тимошей завивали друг другу волосы в дни семейных праздников. В этой комнате Мура и Ходасевич остались разговаривать, что иногда случалось, когда обоим было еще рано спать. Я проснулась среди ночи. В комнате горел свет. Кровать Ходасевича была нетронута. Часы показывали половину третьего. Я удивилась, накинула халат и вышла в коридор. В самом конце дверь была открыта, и слышались тихие голоса. Я подошла к двери. Одинокая лампочка горела в потолке. Они сидели друг против друга, и было что-то напряженное в их приглушенных голосах. Незамеченная, я осторожно вернулась и легла. Что-то беспокоило меня. Уснуть я не могла. Прошло около получаса, и Ходасевич, бледный и усталый, вошел в комнату. "Что случилось?" - спросила я. Он ответил: "Она хочет сделать все возможное, чтобы он уехал в Россию". Мне всегда казалось, что этого хотел Максим, но ни Тимоша, ни Ракицкий этому не сочувствовали. Что касается Муры, то ожидать от нее такого решения судьбы Горького было бы странно. Но она, по выражению Ходасевича, рассуждала здраво: тираж его книг на иностранных языках катастрофически падает, несмотря на уверения Голсуорси и Роллана, что он по-прежнему - величайший из них всех. В Европе за это время случилось многое, о чем ни Горький, ни его окружение понятия не имеют. О Беннетте недавно вышла статья Вирджинии Вульф, которая десять лет тому назад не могла быть написана, а о Фаррере, авторе "Человека, который убил", даже во Франции забыли, хотя он еще жив. Да и в США, кроме Марка Твена, Синклера и Джека Лондона, есть еще гораздо более замечательные писатели. Работу над сценарием "Стенька Разин", заказанным ему французской фирмой, он принужден был бросить - еще не дописанный сценарий в Париже забраковали. И он дал зарок никогда больше не иметь "киноиллюзий".
Постепенно становится ясно, что надо как можно скорее забыть о том, что до войны Америка ему платила 2 000 золотых рублей за печатный лист! Я спросила Ходасевича: почему она заговорила об этом именно теперь? Ответ был прост: потому что он все эти последние недели не знал, что будет с ним: "Беседу" в Россию не пускают, Муссолини молчит, киноопыт результатов не дал. Между тем годы идут, и если он не вернется в ближайшее время, то его и в России перестанут читать и помнить. "Ваш личный враг,- сказала Мура Ходасевичу,- Маяковский , становится со всей их хулиганской компанией и нашим врагом". (Горький никогда не мог забыть, что 27 октября 1922 года в Берлине, в кафе Ландграф, на докладе Шкловского "Литература и кинематограф", во время прений, при упоминании имени Горького, Маяковский встал и громовым голосом объявил, что Горький - труп, он сыграл свою роль и больше литературе не нужен.) За последний год многое, что шло из России, раздражало Горького и даже озлобляло его. Когда он узнал, что Крупская составила список книг, которые следовало изъять из библиотек , в котором находились и Библия, и Коран, и Данте, и Шопенгауэр, и еще около ста авторов, он решил, что ему надо выйти из советского подданства и написать об этом в лондонской "Таймс". Затем он поставил "им" ультиматум: или "Беседу" допускают в Россию, или он начинает печататься в эмигрантских журналах. Это особенно испугало Муру: "Чем тогда жить?" - это был вопрос первостепенной важности. Ходасевич позже писал об этом так: "Не знаю, в какой степени серьезно отнесся Горький к возможности своего участия в эмигрантском журнале. Думаю даже, что он только представлял себе это, как соблазнительный, но несбыточный поступок - вроде выхода из советского подданства, о чем он порой даже принимался писать заявление во ВЦИК, быть может - до слез умиляясь над этим трагическим посланием, о котором знал наперед, что никогда его не отправит по адресу. Как- то вечером, когда все уже улеглись, Мура позвала меня к себе в комнату - "поболтать". Должен отдать справедливость ее уму. Без единого намека, без малейшего подчеркивания, не выпадая из тона дружеской беседы в ночных туфлях, она сумела мне сделать ясное дипломатическое представление о том, что ее монархические чувства мне ведомы, что свою ненависть к большевикам она вполне доказала, но - Максим (сын Горького) вы сами знаете, что такое, он только умеет тратить деньги на глупости, кроме него у Алексея Максимовича много еще людей на плечах, нам нужно не меньше десяти тысяч долларов в год, одни иностранные издательства столько дать не могут, если же Алексей Максимович утратит положение первого писателя советской республики, то они и совсем ничего не дадут, да и сам Алексей Максимович будет несчастен, если каким-нибудь неосторожным поступком испортит свою биографию. "для блага Алексея Максимовича и всей семьи надо не ссорить его с большевиками, а наоборот - всячески смягчать отношения. Все это необходимо и для общего нашего мира",- прибавила она очень многозначительно. После этого разговора я стал замечать, что настроения Алексея Максимовича внушают окружающим беспокойство и что меня подозревают в дурном влиянии".
Дурное влияние, конечно, было. Но оно не сыграло никакой роли в дальнейшем: давление Муры, Максима, Крючкова, Андреевой (партийный работник) и Е. П. Пешковой (бона фиде сотрудница Дзержинского) не могло не быть в сто раз сильнее влияния Ходасевича. Мура в тот год недолго оставалась с нами: вернувшись после Рождества в Мариенбад , она уже 6 февраля снова уехала, на этот раз не "к детям", а по делам в Берлин. Уже 12-го числа она писала Горькому, что Госиздат требует у Ладыжникова полного слияния его издательства "Книга" с ним, Госиздатом , что в Берлине появился представитель Госиздата, который предлагает Горькому контракт на полное собрание сочинений тиражом в 40 000 экземпляров. Теперь, когда сочинения Горького в СССР выходят в 300 000 экземпляров (издание Академии наук 1968-1976 годов), эта цифра кажется не столь внушительной, но в 1924 году предложение было соблазнительно. Торгпредство, субсидировавшее Ладыжникова, думает, что Горькому нужно как можно скорее подписать контракт, хотя, конечно, не надо забывать, что после этого Горький не будет иметь права печатать отдельные вещи по своему усмотрению в других издательствах (впрочем, к этому времени их уже не оставалось) или в журналах - без разрешения Госиздата. Но деньги они дадут теперь, и Крючков выедет на днях к Горькому с контрактом, который Горький, как они полагают, подпишет без задержки, потому что все должно быть закончено к концу месяца. Картина отчасти осложнялась тем, что в контракте с "Книгой" были замешаны интересы крупного германского издателя Курта Вольфа . Эти дела ее задержали в Германии дольше обычного. В конце марта она вернулась только для того, чтобы вывезти Горького и его семью из Мариенбада в Италию,- визы наконец были получены, а 5 мая она снова была в Берлине, и Горький, не без раздражения, уже из Сорренто спрашивал в письме Крючкову: "Где Мария Игнатьевна?" Мы тоже получили визу, недели за три до них, и 13 марта выехали в Италию самостоятельно. Туда, сначала в Венецию, потом в Рим, и позже в Париж, пришло пять писем от Муры Ходасевичу . Эти письма, написанные между 13 марта (все еще из Мариенбада) и 21 сентября 1924 года ( Сорренто , вилла Масса), были получены нами сначала в Италии, а затем - в Париже, где мы были летом. Четвертое, предпоследнее письмо о разрешении "Беседы" было написано, очевидно, под влиянием какого- то ложного слуха: в это же время в письмах Горького к Ходасевичу нет ни одного слова об этом радостном событии. И сама Мура больше не вернулась к нему. Многое в этих письмах характерно для ее тона с нами: шутки, кокетство, путаница, парадоксы, которые, взятые сами по себе, звучат бессмысленно, нежность чувств и заботливый голос, не ведущий ни к каким последствиям: она знает, что если у нас "с деньгами плохо", то у нее мы помощи просить не будем, мы знаем, что "Арапа Петра Великого" в ее переводе не издадут - как не издали ее переводов писем Чехова, "Очарованного странника" Лескова и "Детства Люверс". Она играет с Ходасевичем, и он отвечает ей игрой, насколько может и умеет играть в ее ключе. Слова "мы", "нам", "наши" заявляют о близости ее к русской литературе; она имеет на них полное право.
Ссылки: