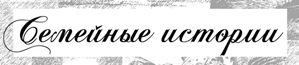 |
У Сталина на Маяковского были свои виды
Булгаков знаменитое свое письмо от 28 марта 1930 года адресовал "Правительству СССР". Но обращался он при этом не к кому- нибудь, а именно к Сталину. И ответил ему на это его письмо (своим телефонным звонком) Сталин. Маяковский, обратившись в своем предсмертном письме к "Товарищу Правительству", не имел в виду ни Сталина, ни вообще кого-либо персонально. Но Сталин не забыл те строки этого его письма, в которых поэт, перечисляя членов своей семьи, первой назвал Лилю Юрьевну Брик. Семь лет спустя, когда был арестован и расстрелян тогдашний муж Лили Юрьевны Виталий Маркович Примаков (он был "однодельцем" Тухачевского и Якира ) и Сталину представили список членов семей этих разоблаченных врагов народа, которых, по установившемуся тогда порядку, предполагалось арестовать, он вычеркнул Лилю Юрьевну из этого проскрипционного списка, сказав: - Не будем трогать жену Маяковского. На самом деле "официально" женой Маяковского Лиля Юрьевна, как известно, никогда не была. Но это ОН решал, кого считать чьей женой. Даже Крупской в свое время недвусмысленно дал понять, что если она будет рыпаться, женой Ленина назначат не ее, а Стасову или какую-нибудь другую даму из партийного ареопага.
Впрочем, исключение, которое Сталин сделал для Л.Ю. Брик, вычеркнув ее имя из списка членов семей врагов народа, быть может, было обусловлено тем, что именно с ней, с ее обращением к нему была связана его знаменитая фраза: "Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи". Что касается самого Маяковского, то у него никаких личных контактов - не говоря уже о личных отношениях - со Сталиным не было. Но у Сталина интерес к Маяковскому был. Можно даже сказать, что у него были на Маяковского свои виды.
Говорили мне, что поэмы "Хорошо!" и "Владимир Ильич Ленин" очень понравились наверху и что было предположение, что Владимир Владимирович будет писать такие же похвалы и главному хозяину. Этот прием был принят на Востоке, особенно при дворе персидских шахов, когда придворные поэты должны были воспевать их достоинства в преувеличенно хвалебных словах,- но после этих поэм Маяковского не стало. ( Л.В. Горнунг . Встреча за встречей. Из дневниковых записей. В кн.: "Воспоминания о Борисе Пастернаке". М. 1993, стр. 80.)
21 января 1930 года на траурном заседании в Большом театре, посвященном очередной годовщине смерти Ленина, Маяковский читал третью часть своей поэмы "Владимир Ильич Ленин". Сидевший в правительственной ложе Сталин горячо аплодировал поэту. Не без некоторых оснований можно предположить, что между этими двумя фактами (аплодисментами вождя и дошедшими до Горнунга слухами о надеждах, которые Сталин возлагал на Маяковского) есть прямая связь. Помимо того, что поэма Маяковского обладала всеми достоинствами сервильной персидской поэзии, призванной в "преувеличенно хвалебных словах" воспевать власть шаха, было в ней одно место, которое не могло не вызвать у Сталина особый, личный интерес:
Когда я итожу то, что прожил, и роюсь в днях - ярчайший где,
я вспоминаю одно и то же - двадцать пятое, первый день.
Штыками тычется чирканье молний, матросы в бомбы играют, как в мячики.
От гуда дрожит взбудораженный Смольный.
В патронных лентах внизу пулеметчики. "Вас вызывает товарищ Сталин.
Направо третья, он - там. "Товарищи, не останавливаться!
Чего стали? - В броневики и на почтамт! - По приказу товарища Троцкого!
- Есть! - повернулся и скрылся скоро, и только на ленте у
флотского под лентой - блеснуло - "Аврора". Поэма Маяковского "Владимир Ильич Ленин" писалась осенью 1924 года, и тогда, рисуя "взбудораженный Смольный" в день Октябрьского переворота, без Троцкого поэт еще никак не мог обойтись. Но Троцкий - заметьте! - у него идет (по порядку упоминания) "вторым номером" (хотя все совершающееся совершается по его приказу), а Сталин - первым. Без признания, что все совершавшееся в тот день совершалось по приказам "товарища Троцкого", трудно было обойтись даже и в более поздние времена.
Помню, в детстве я смотрел - уже далеко не в первый раз - один из самых знаменитых тогдашних и самых любимых мною фильмов - "Ленин в Октябре" . И всегда особенно волновал меня там один кадр: последнее заседание ЦК, на котором решался вопрос о вооруженном восстании. Самого заседания нам не показали: мы видели только ведущую в какую-то комнату застекленную дверь. Стекло было непрозрачным, матовым. И вот за этим непрозрачным стеклом метались какие-то тени, неясные силуэты, звучали чьи-то голоса. (Знакомым, узнаваемым был там только один голос и только один силуэт: Ленина.) И как же мне хотелось тогда, чтобы дверь эта приоткрылась хоть на минуту, чтобы заглянуть туда, в ту комнату хоть одним глазком: узнать, как оно все там было на самом деле.
В чем-то я тут, наверно, был похож на того легендарного мальчика (было в моем детстве такое устное предание), который двадцать раз ходил на "Чапаева", надеясь, что в какой-нибудь из этих разов раненый Василий Иванович в своей белой рубахе - выплывет, не утонет. Вот так же и я, может быть, втайне надеялся, что эта заветная дверь вдруг откроется, и я, глядишь, услышу еще две-три какие-нибудь исторические фразы, а главное, увижу кого-нибудь из тех, кто еще там был на том историческом заседании, кроме известных мне Ленина, Сталина, Свердлов и Дзержинского.
Но дверь эта так и не открылась. И вся (легальная, подцензурная) советская литература остановилась перед этой наглухо запертой дверью. Василий Гроссман , начав и наполовину написав свой роман "Степан Кольчугин", бросил его, приблизившись к Первой мировой войне: продолжать - значило лгать, а лгать он не хотел. Эммануил Казакевич гораздо больше душевных - да и физических - сил, чем на создание своей "Синей тетради", затратил на переписку с партийными функционерами разного калибра. А вся эта долгая титаническая борьба шла только за то, чтобы читатель узнал, что в знаменитом шалаше, в Разливе , вместе с Лениным прятался и Зиновьев .
Я иронизирую, но Казакевичу не зря казалось тогда, что открыть эту великую государственную тайну так важно. Ведь для миллионов моих сверстников эта "новость" стала тогда откровением. Но для меня она даже и новостью не была. Я знал это (как и многое другое) даже и не помню, с каких времен. И все благодаря тому странному, жгучему интересу, овладевшему мной перед той наглухо запертой дверью. По мере сил я старался если и не проникнуть сквозь эту запертую дверь, так хоть проделать какую-нибудь маленькую щелочку в ней. И кое-какие щелочки действительно проделал.
Сейчас я уже не помню, с чего это началось. Наверное, с потрепанной, зачитанной книги Джона Рида "Десять Дней, которые потрясли мир" , отыскавшейся в недрах родительской тахты, где хранились у нас пересыпанные нафталином старые, ненужные в повседневной жизни вещи. Что- то такое об этой книге я уже слышал. (Говорили о ней шепотом, но - говорили.) И не только слышал, но и читал. И не где-нибудь, а у самого Сталина. Сталин сказал, что все это - сплошное вранье.
"Джон Рид стоял далеко от нашей партии, - сказал он, - и попал на удочку сплетен". Я читал это собственными глазами и хорошо запомнил. Запомнил еще такую, совсем уже презрительную сталинскую фразу:
"Едва ли нужно доказывать, что все эти и подобные им арабские сказки не соответствуют действительности".
Я готов был поверить Сталину: ведь Джон Рид и в самом деле, наверно, "стоял далеко от партии". Уж во всяком случае, дальше, чем Сталин.
И вот эта книга, о которой я столько слышал, оказалась в моих руках. И в предисловии к ней, написанном самим Лениным, я прочел, что о событиях октября 1917 года в ней рассказано "с исключительной правдивостью". Естественно, я больше поверил Ленину. Тем более, что в книге Джона Рида то и дело поминались то Троцкий , то Каменев , то Зиновьев , то Бубнов , то еще кто-нибудь из более мелких вождей Октября. О Сталине же там не было ни полслова.
Только в составе первого советского правительства, где-то на последнем месте, после всех, неизмеримо более важных и главных наркомов упоминался и он, возглавивший совершенно пустяковый и никому не нужный, как мне тогда казалось, наркомнац . Но это и тогда уже не было для меня новостью и потому не произвело на меня такого уж сильного впечатления. Я бы даже, пожалуй, поверил Сталину, что в этой книге, написанной по горячим следам событий, да еще человеком, глядящим на них со стороны, и в самом деле много неточностей, на которые Ленин просто не обратил внимания.
Больше всего тут меня поразило совсем другое. Книга Джона Рида, так высоко оцененная Лениным за ее точность и правдивость, была изъята, запрещена. Значит, все, о чем говорилось в этой книге, было правдой. И значит, Сталин - вот это и было самое главное - этой правды боялся.
Вернемся, однако, в то время, когда Маяковский писал свою поэму о Ленине. Это было, как я уже упоминал, осенью 1924 года. Как раз в это самое время в партии - в самых высших ее эшелонах - развернулась бурная дискуссия о роли Троцкого в событиях 25 октября 1917 года. См. Борьба Сталина с Троцким началась в 1918 г
Ссылки: