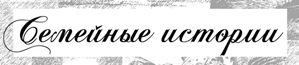 |
Пастернак и Щербаков А.С.
Последнее - 1945 года - письмо Пастернака Сталину заключает фраза:
"Мне очень совестно беспокоить Вас пустяками, я годы и годы воздерживался от этого, пока был жив Александр Сергеевич Щербаков , который знал меня и выручал в крайностях". За этой короткой репликой тоже скрывается некий сюжет. После окончания Парижского конгресса Пастернак выехал из Парижа в Лондон, а оттуда - пароходом - в Ленинград. На пароходе он оказался в одной каюте с А.С. Щербаковым, - и две ночи подряд изводил его разговорами. Щербаков сначала кивал, потом пытался не слушать, потом засыпал, потом просыпался - а Пастернак в душной каюте все сидел на кровати и говорил, говорил. Одни считают, что это был бред. Другие - что Пастернаку важно было прикинуться душевнобольным перед чиновником, которому предстояло писать отчет об антифашистском конгрессе , а конгресс-то, в общем, провалился. (Дмитрий Быков. "Борис Пастернак", М. 2005, стр. 546.)
Притворяться душевнобольным Пастернаку не было никакого резона, - не он же отвечал за успех или провал конгресса. Да, по правде говоря, ему и не надо было притворяться, чтобы произвести впечатление душевнобольного: он и в самом деле был тогда невменяем. И уезжал в Париж в плохом душевном состоянии, а там душевно совсем расклеился: достаточно напомнить, что он вернулся домой, так и не повидавшись с родителями, с которыми больше никогда в жизни ему уже не суждено было встретиться. И вот в этом полубезумном состоянии он изливал Щербакову все, что у него наболело, тот, задремывая, слушал его вполуха и кивал, а Борису Леонидовичу казалось, что вот, нашелся, наконец, человек, который его понимает, которому, как родному, можно открыть все, что томит и терзает его душу:
ИЗ ПИСЬМА ПАСТЕРНАКА ТИЦИАНУ ТАБИДЗЕ
6 сентября 1935 г. Щербакову, с которым я разделял каюту по пути из Лондона в Ленинград, я много рассказывал о Вас. Это было самое худшее время моих испытаний, какая-то болезнь души, ощущенье конца без видимого наступления смерти, сама тоскливая немыслимость. (Борис Пастернак. Полн. собр. соч. Том 9, стр. 45.)
ИЗ ПИСЬМА З.Н. ПАСТЕРНАК
12 июля 1935 г. Я приехал в Ленинград в состоянии острейшей истерии, т.е. начинал плакать при каждом сказанном кому-нибудь слове. У Щербакова список вещей, задержанных на ленинградской таможне. Попроси его, он поможет тебе их выручить. (Там же, стр. 33-34.)
Щербаков помог. Он дал Зинаиде Николаевне официальное письмо на Ленинградскую таможню, помог ей добыть билет на поезд в Ленинград (с этим тогда тоже были большие трудности). Все это он делал скорее по долгу службы, нежели по особому душевному расположению к соседу по каюте. Но у Бориса Леонидовича укрепилась уверенность, что Щербаков - его добрый ангел, к которому, в крайнем случае, он всегда может обратиться. И обращался. Как правило, в связи с разными бытовыми проблемами. Но однажды в своем обращении к нему затронул более существенную для него и весьма щепетильную тему.
Тут нужна маленькая предыстория.
31 января 1939 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ о награждении ста семидесяти двух советских писателей орденами .
Пастернака в списке награжденных не было. Но старый его друг и однокашник Асеев - был. (Был он и в числе первых лауреатов Сталинской премии.) На эту государственную (правительственную) ласку Асеев откликнулся стихами:
Вколото эмаль и золото не только в мой пиджачный лацкан, - пыланьем ордена, вниманьем родины весь труд писательский возвышен и обласкан. На эти лакейские стишки и на всю шумиху, связанную с награждением писателей орденами (а шумиха была большая: по всей стране шли митинги, писатели сочиняли и подписывали благодарственные письма "товарищу Сталину"), язвительно откликнулся из Парижа Вл. Ходасевич :
"Всё это и жалко, и смешно, и грустно до последней степени. ("Возрождение", 17 февраля 1939 года.) Естественно предположить, что реакция Пастернака должна была быть примерно такой же, как у Ходасевича, В тот момент она, наверно, такой и была. Но какая-то заноза в его душе по этому поводу, видимо, все-таки осталась. Это прорвалось в двух его письмах к А.С. Щербакову, написанных позже и как будто бы тоже по сугубо бытовым поводам:
ИЗ ПИСЬМА А.С. ЩЕРБАКОВУ 16 июля 1943 г.
Моя квартира в Лаврушинском разгромлена до основания именно как бедная, на которой было написано, что она не знатная и за нее не заступятся. Она необитаема, в ней не осталось обстановки. Полностью уничтожен плод давних и многолетних работ моего отца, академика, поныне живого и находящегося в Англии, в Оксфорде. Как раз пример отца, его близость со старой Москвой и большими суровыми людьми вроде Льва Толстого с детства повелительно и непобедимо сложили мой характер. По своим нравственным правилам я не мог извлекать выгод из своих былых успехов (как на съезде писателей, за границей и пр.), которыми на моем месте воспользовался бы всякий. Мне кажется, я сделал не настолько меньше нынешних лауреатов и орденоносцев, чтобы меня ставили в положение низшее по отношению к ним. Мне казалось мелким и немыслимым обращаться к Иосифу Виссарионовичу с этими страшными пустяками. Любящий Вас Б. Пастернак. (Борис Пастернак. Полн. собр. соч. Том 9, стр. 349.)
ИЗ ПИЬМА А.С. ЩЕРБАКОВУ 5 мая 1944 г.
В лучшие годы удач я изнемогал от сознания спорности и неполноты сделанного. Это естественно. То, что было крупно и своевременно у Блока, должно было постепенно выродиться и обессмыслиться в Маяковском, Есенине и во мне. Это тягостный процесс. Он убил двух моих товарищей и немыслимо затруднил мою жизнь, лишив ее удовлетворенности. Этого не знают наши подражатели. Каково бы ни было их положение, все это литературная мелочь, незатронутая испепеляющим огнем душевных перемен, умирания и воскресений. Все это старое я сбросил, я свободен. Меня переродила война и Шекспир. Вероятно, формой я владею теперь уже во сне и не сознаю ее и не замечаю. Я поглощен содержанием виденного и испытанного, историческим содержанием часа, содержанием замыслов. Я ничего не прошу. Но пусть не затрудняют мне работы в такой решающий момент, ведь я буду жить не до бесконечности, надо торопиться. Надо напомнить, что я не дармоед даже и до премии и без нее. Простите, что занял у Вас так много времени и говорю с Вами без обиняков. Вы единственный, обращение к кому не унижает меня. Неизменно верный Вам и любящий Вас Б. Пастернак. (Там же, стр. 374.)
Ему казалось, что он говорит ?без обиняков?. Так оно, в сущности, и было. Для него это был - предел ясности, который он мог себе позволить, затрагивая столь щекотливую тему. Щербаков, однако, из этих его "обиняков" мало что понял.
На одном из этих писем он начертал такую резолюцию:
Тов. Александров. Выясните, что Пастернак хочет конкретно.
А. Щербаков.
Между тем понять, "что хочет Пастернак конкретно", было не так уж трудно. Он хотел, чтобы его труд был оценен так, как он того заслуживал. Иными словами, он хотел принадлежать к сонму обласканных.
Написав, что понять, чего хочет Пастернак, было не так уж трудно, я, пожалуй, слегка поторопился. Человеку такой складки, как Щербаков, наверно, не так уж просто было извлечь рациональное зерно из того сумбура, какой обрушил на него Пастернак. В самом деле: какая связь между тем, что его квартира разгромлена - и горестной судьбой Маяковского и Есенина, Шекспиром, переродившей его войной и какими-то подражателями, не затронутыми "испепеляющим огнем душевных перемен" С Щербаковым Пастернак объяснялся на том же, своем, "пастерначьем" языке, на каком он обращался к Цветаевой. Вернее, это был даже не язык, не способ выражения мысли, а сама мысль, скачущая, парящая, то взмывающая в небеса, то спускающаяся на землю, движущаяся по каким-то своим, особенным законам. Уследить за причудливыми пируэтами этой пастернаковской мысли не всегда могли даже самые умудренные из его коллег:
"Позднее закатное солнце бьет в большие раскрытые окна без занавесок. Далеко, во главе стола, сидит Горький с Раскольниковым по одну руку и Всеволодом Ивановым - по другую, курит, покашливает, как уже неоднократно было подмечено. Один за другим встают писатели и произносят приветственные слова на тему "Добро пожаловать!"
Помню, что речь Пастернака удивила многих, вероятно, и Горького. Слушали, недоумевая, с вопросительным выражением: где-то ты сядешь?.. Сделав несколько замысловатых виражей над головами присутствующих, побывав где-то очень далеко, вылетев в одно окно и влетев в другое, он все же приземлился на три точки. Горький покашливал и покуривал" (Василий А. Катанян. Распечатанная бутылка. Нижний Новгород. 1999. Стр. 132-133.)
Этим свойством своей натуры Пастернак умело пользовался. Не хочу сказать, что он наигрывал, притворялся. Но в разных сложных ситуациях хватался за него, как утопающий за соломинку. И "соломинка" выручала. См. Пастернак и "московские процессы"
Ссылки: