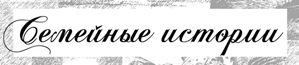 |
"ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ РИСКОВАННЫ" (Сталин, Толстой А.Н. и Петр I)
Ой, калина-малина,
Шесть условий Сталина,
Остальные Рыкова
И Петра Великого.
Частушка 30-х годов
Фразу, которую я сделал названием этого сюжета, произнес Сталин. Он обронил ее, отвечая на вопрос Эмиля Людвига , с которым беседовал 13 декабря 1931 года.
Тот спросил, считает ли Сталин себя продолжателем дела Петра Великого.
Сталин. - Ни в каком роде. Исторические параллели всегда рискованны. Данная параллель бессмысленна.
Людвиг. Но ведь Петр Великий очень много сделал для развития своей страны, для того, чтобы перенести в Россию западную культуру.
Сталин. Да, конечно, Петр Великий сделал много для возвышения класса помещиков и развития нарождавшегося купеческого класса. Петр сделал очень много для создания и укрепления национального государства помещиков и торговцев. Надо сказать также, что возвышение класса помещиков, содействие нарождавшемуся классу торговцев и укрепление национального государства этих классов происходило за счет крепостного крестьянства, с которого драли три шкуры.
Что касается меня, то я только ученик Ленина, и цель моей жизни - быть достойным его учеником.
Задача, которой я посвящаю свою жизнь, состоит в возвышении другого класса, а именно - рабочего класса. Задачей этой является не укрепление какого-либо "национального" государства, а укрепление государства социалистического, и значит - интернационального, причем всякое укрепление этого государства содействует укреплению всего международного рабочего класса. Если бы каждый шаг в моей работе по возвышению рабочего класса и укреплению социалистического государства этого класса не был направлен на то, чтобы укреплять и улучшать положение рабочего класса, то я считал бы свою жизнь бесцельной. Вы видите, что Ваша параллель не подходит.
Вряд ли этот ответ был искренним.
"Я только ученик Ленина" - это обычная сталинская поза. Лучше даже сказать - маска.
Что же касается той школьной марксистской политграмоты, которую он преподнес Людвигу, то она тоже вряд ли отражала подлинный его взгляд на вопрос, заданный ему немецким писателем.
Что правда - то правда: предложенная Людвигом историческая параллель и впрямь была рискованной. Но - совсем не бессмысленной.
Полтораста лет назад Евгений Баратынский сочинил стихотворение, которое звучит сейчас так, будто оно написано сегодня:
Сначала мысль, воплощена
В поэму сжатую поэта,
Как дева юная, темна
Для невнимательного света;
Потом, осмелившись, она
Уже увертлива, речиста,
Со всех сторон своих видна,
Как искушенная жена
В свободной прозе романиста;
Болтунья старая, затем
Она, подъемля крик нахальной,
Плодит в полемике журнальной
Давно уж ведомое всем.
Это я к тому, что, в точном соответствии с этим замечанием, рискованная историческая параллель, предложенная Людвигом, сперва была высказана поэтами. Но глубинный, истинный ее смысл, вопреки суждению Баратынского, стал высвечиваться позже, а окончательную ясность обрел совсем недавно, и как раз в той самой журнальной полемике, о которой поэт отозвался так пренебрежительно.
Едва ли не первой увидала в Петре деятеля, не только предвосхитившего, но в чем-то и предопределившего события большевистской революции, Марина Цветаева.
С яростью писала она о великом реформаторе в августе 1920 года:
Не на своих сынов работал -
Бесам на торжество!
Царь-Плотник, не стирая пота
С обличья своего.
Не ты б - всё по сугробам санки
Тащил бы мужичок.
Не гнил бы там на полустанке
Последний твой внучок.
Ты под котел кипящий этот
Сам подложил углей!
Родоначальник - ты - Советов,
Ревнитель Ассамблей!
Родоначальник - ты - развалин,
Тобой - скиты горят,
Твоею же рукой провален
Твой баснословный град.
Соль высолил, измылил мыльце -
Ты, Государь-кустарь!
Державного однофамильца
Кровь на тебе, бунтарь!
Не все поэты, которым привиделась та же параллель, поняли и истолковали ее так яростно-однозначно, как Цветаева. Но тут важно отметить, что увидала ее не одна она. Были и другие, разглядевшие и прочертившие ее с той же ясностью:
Нахмурив брови, Всадник Медный
На вздыбленном своем коне
Внимал, как рвется мат победный
К дворцовой рухнувшей стене.
Его лицо не потемнело,
Лишь под копытами коня
Змея свивалась и шипела, -
Рука державная, звеня,
Над мертвым городом широко
Зловещий очертила круг,
И смехом пламенное око,
Как солнце вспыхивало вдруг.
На зов его уже бежали
Мальчишки с ближнего двора,
И с криком радостным - ура!
Салазки быстрые съезжали
С подножий ледяных Петра.
Шумит гражданская гроза,
Гигант стоит неколебимо,
И только узкие глаза
Следят за ним неутомимо.
На загнанном броневике
Ладонь широкая разжата, -
Есть сходство грозное в руке
С той, устремившейся куда-то.
То, что автор этих строк ( Владимир Корвин-Пиотровский ), отпрыск одной из старинных русских дворянских фамилий, в гражданскую войну сражавшийся на стороне белых и закончивший свои дни в эмиграции, углядел "сходство грозное" державных жестов двух - таких разных - исторических фигур, безусловно делает честь его проницательности. Но дальше этой простой констатации он не пошел. Никаких выводов из этого своего наблюдения не сделал. Ни гневно отрицающего, как Цветаева, ни - тем более - восторженного, ни даже осторожно-примирительного, который высказал - правда, чуть позже, в том самом году, в котором Сталин беседовал с Эмилем Людвигом , - еще один русский поэт, Борис Пастернак :
Столетье с лишним - не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни.
Хотеть, в отличье от хлыща
В его существованье кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.
И тот же тотчас же тупик
При встрече с умственною ленью,
И те же выписки из книг,
И тех же эр сопоставленье.
Но лишь сейчас сказать пора,
Величьем дня сравненье разня:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Итак, вперед, не трепеща
И утешаясь параллелью,
Пока ты жив, и не моща,
И о тебе не пожалели.
О том, что "в надежде славы и добра" он глядит в будущее без боязни, "столетье с лишним" тому назад сказал Пушкин. Пастернак как будто говорит о том же. Но на самом деле - совсем о другом. О том, что есть огромная сила в соблазне смотреть на вещи так, как смотрел Пушкин. Он говорит: я бы тоже хотел смотреть в будущее без боязни. О, как бы я хотел! Как бы это было хорошо, если бы я мог, подобно Пушкину, не считая это соблазном, глядеть в будущее без страха, верить и надеяться!
Собственно говоря, стихи Пастернака - это плач о невозможности для него такого взгляда. Поэтому самоуговаривание в его стихах звучит гораздо обнаженней и трагичней, чем в пушкинских.
"Итак, вперед, не трепеща!" - это окрик, понукание самому себе. И это признание того, что в душе он трепещет, чувствуя, зная, что рано или поздно все кончится недобром.
И тем не менее он все-таки готов утешаться той исторической параллелью, которая Цветаеву одиннадцать лет тому назад привела в ярость.
Это значит, что в то время (в 1931 году) еще можно было надеяться, что и нынешний исторический эксперимент, - страшный, жестокий, кровавый, - в конечном счете (когда-нибудь!) обернется для нашего Отечества благом. Как обернулось для него благом "начало славных дней Петра".
Мысль, что и это самое благо, к которому якобы привели страну великие реформы Петра, вовсе не было для нее благом, - эта простая мысль (для Цветаевой столь несомненная и очевидная) ему в голову не приходит.
Должно было пройти еще полвека, чтобы эта мысль, став наконец достоянием "полемики журнальной", не только обрела полную ясность, но и перестала быть пугающей, шокирующей, чуть ли даже не кощунственной.
Негативное отношение к результатам деятельности великого преобразователя России - не новость в русской исторической и политической мысли. Реформы Петра резко осуждали славянофилы, вслед за которыми прокляла "интернацьонал" Петра Цветаева , противопоставив ему "терем" царевны Софьи.
Да, все это не ново.
Но глубокий кризис, а вскоре последовавший за ним и полный крах советской политической системы позволили современным историкам по-новому осмыслить значение и результаты всей деятельности Петра.
Революция Петра изменила страну не меньше, чем революция Ленина. И она обещала ей взлет на вершину мирового могущества. Уже во второй половине восемнадцатого столетия екатерининский канцлер Безбородко хвастал, что "ни одна пушка в Европе без нашего позволения выпалить не смеет". К середине следующего столетия "Петербургская" Россия достигла апогея своего могущества, превратившись в супердержаву и "жандарма Европы", в главную антиреволюционную силу мира, в которой Карл Маркс (точно так же, как сейчас президент Рейган) видел "империю зла" и "оплот всемирной реакции". Это было время, когда русский историк Михаил Погодин восклицал: "Спрашиваю, может ли кто состязаться с нами и кого не принудим мы к послушанию? Не в наших ли руках политическая судьба мира, если только мы захотим решить ее?.. Русский государь ближе Карла Пятого и Наполеона к их мечте об универсальной империи!"
И что же? Уже несколько десятилетий спустя мы видим Петербургскую Россию в той же ситуации угасания, из которой она вывела когда-то Московское царство, утратившее гордый статус супердержавы, опять провинциальной и агонизирующей. Владимиру Ленину суждено было исполнить в начале двадцатого столетия то, что Петр исполнил в начале восемнадцатого - разрушить отжившую форму русской политической системы для того, чтобы спасти ее полувизантийскую, имперскую средневековую сущность. И опять - со своим коммунизмом, интернационалом и "диктатурой пролетариата" - отличалась эта Россия от своей предшественницы настолько, что казалась другой страной. И опять поднялась она к вершинам мирового могущества, превратившись в супердержаву и уже к середине столетия совершив то, что не удалось Петру, - проглотила, даже не поперхнувшись, Восточную и часть Центральной Европы с населением в сто одиннадцать миллионов.
И что же? Несколько десятилетий спустя мы видим советскую Россию в той же ситуации исторического угасания, из которой она когда-то вывела Петербургскую империю, опять агонизирующую, с длинным перечнем словно бы неизлечимых болезней.
(Александр Янов. Русская идея и 2000-й год. Нью-Йорк, 1988. Стр. 30-31)
Раньше никто из отрицателей и разоблачителей петровских преобразований не осмеливался посягнуть на всей историей России присвоенный Петру титул великого реформатора, а самим этим преобразованиям - имя реформы.
Автор процитированного отрывка предлагает для обозначения деятельности Петра другое наименование:
И в конце семнадцатого и в начале двадцатого века Россия выдвинула сравнительно молодых и динамичных лидеров - Василия Голицына в первом случае и Петра Столыпина во втором, - попытавшихся отвратить опасность гарнизонной контрреформы смелыми планами реформ. Они были изобретательны и энергичны, они многого добились. Но они проиграли. Выиграли их противники, лидеры гарнизонных контрреформ. Петр - в первом случае и Ленин - во втором.
(Там же. Стр. 32)
Вот оно - новое, подсказанное нашим временем наименование петровских преобразований. Не реформа, а нечто противостоящее, противоположное ей - контрреформа.
Печальный опыт советского семидесятилетия позволил другому современному историку увидеть в Петре предшественника, в известной степени даже зачинателя не только политической, но и экономической советской (как мы ее называли - социалистической) системы:
"Государственное регулирование в XVIII веке велось повсеместно, но та особая категоричность и жесткость, с которыми оно велось в России, преграждала путь частному предпринимательству и тормозила развитие буржуазных начал. Первое, что им необходимо, это экономическая свобода, возможность для частного человека становиться предпринимателем на свой страх и риск. На западе не так власть поощряла предпринимателей, как они добивались от власти строгого порядка и законов, позволяющих строить и создавать без опасения, что построенное и созданное у тебя вдруг отберут, как в любую минуту могла что угодно отобрать наша власть. А у нас и само разрешение на открытие предприятия именовалось "привилегия"- это и была привилегия, доступная не каждому.
Никите Демидову , некогда тульскому кузнецу, умелому оружейнику, Петр в 1702 году - еще война была в самом разгаре - отдал Невьянский металлургический завод потому, что ему верил. А другому кому самому построить такой же завод на собственные деньги не дозволялось. Вот и выходило, что Петр по примеру капиталистической Голландии или Англии строил заводы, а капиталистов не заводил, недаром и Демидовы, и Строгановы, и другие хозяйственные дарования тех лет становились баронами и графами, врастали в дворянское, феодальное сословие. И как служилые дворяне они получали привилегии, но как предприниматели не были свободны"
Петр Великий, сознававший нужду в этих заводах и усердно их строивший, так и не отвел им в своей империи законного места, а предпочел приравнять к привычным поместьям и вотчинам. Это и было торжеством феодальной реакции в самом прямом смысле. Она дала себя знать уже при Иване IV. Но тогда феодальная реакция бесчинствовала еще как бы на своей феодальной, сельскохозяйственной территории. При Петре она навязала свои установления новым промышленным предприятиям, по природе буржуазным, скрутила их в бараний рог и наперед переиначила, переиначив этим всю нашу последующую жизнь.
(Поэль Карп. Отечественный опыт. Петербург. 1991. Стр. 115-117)
Самой природой, самой сутью петровских преобразований была предопределена неизбежность грядущего краха как Петровской, так и Сталинской империи. Эта мысль тоже нашла свое отчетливое выражение в той "полемике журнальной", за которой мы с таким напряженным вниманием и интересом следили на рубеже двадцатого и двадцать первого века:
Беда русских реформ была в том, что, столкнувшись с очередной необходимостью немедленно ответить на вызов времени, лидеры страны шли, казалось бы, единственно возможным путем: напрягали мускулы государства. Через сверхусилия государства быстро вытянуть страну.
От Петра Великого до Сталина - Берии мы имели возможность экспериментально проверить правильность такой "самоочевидной" тактики.
Идеологию такой реформы выразил в своем пророческом произведении, квинтэссенции русской истории, А.С. Пушкин:
О, мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?
Пушкина восхищала и ужасала грозная сила этой "сверхдержавной реформы". Но опыт показал: за рывком неизбежна стагнация и (или) обвал. Страна не может долго стоять "на дыбах". Сверхусилия государства даются дорогой ценой - ценой истощения общества. Решая проблемы модернизации, Российская (а затем советская) империя только с одной стороны боролась с внешним миром. С другой стороны имперское государство боролось со своим обществом. Каждый раз в экстремальной ситуации государство насиловало общество. Зажатое общество не могло устойчиво экономически развиваться. "Узда железная" быстро ржавела и становилась цепью, впившейся в живое мясо страны.
(Егор Гайдар. Новый курс. "Известия", 10 февраля 1994)
А.Н. Толстой вряд ли сознавал все это с такой ясностью. Но его художественные произведения, в которых он на свой лад изобразил и отразил эпоху Петра и саму личность преобразователя, внятно говорят нам, что исходил он в этой своей работе из достаточно трезвого понимания истинного смысла той исторической параллели, которую Сталин так решительно объявил бессмысленной.
К художественному изображению и осмыслению деятельности Петра Великого А.Н. Толстой обратился очень рано. И тема эта не отпускала его на протяжении всей его творческой жизни. Точнее - на протяжении двадцати семи лет, потому что первый свой рассказ он написал в 1917 году. (Опубликовал в 1918-м, в петроградском альманахе "Скрижаль".)
Впоследствии об этом своем рассказе А.Н. не раз отзывался пренебрежительно и, - называя то рассказом, то повестью, - всегда в одних и тех же выражениях:
Повесть была написана в самом начале февральской революции. Я не помню, что было побуждающим началом. Несомненно, что эта повесть написана под влиянием Мережковского. Это слабая вещь.
(Стенограмма беседы с коллективом редакции журнала "Смена") На самом деле вещь была совсем не слабая. Не побоюсь сказать, что написана она была в полную силу его яркого пластического дарования. (В этом мы еще сумеем убедиться.) Но еще больше, чем эта уничижительная самооценка, удивляет утверждение А.Н. Толстого, что этот его рассказ был написан под влиянием Мережковского .
Подразумевался при этом, надо полагать, знаменитый в то время роман Д.С. Мережковского "Антихрист. (Петр и Алексей)" , замыкавший большую его романную трилогию - "Христос и Антихрист" . (Первый - "Смерть богов" - был посвящен Юлиану-отступнику, второй - "Воскресшие боги" - Леонардо да Винчи.)
Вот каким предстает перед нами Петр в этом его романе:
При свете сального огарка, в ночном колпаке, халате и кожаном переднике, царь сидел за токарным станком и точил из кости паникадило в собор Петра и Павла, за полученное от Марциальных вод облегчение болезни; потом из карельской березы - маленького Вакха с виноградной гроздью - на крышку бокала. Работал с таким усердием, как будто добывал этим хлеб насущный.
В половине пятого пришел кабинет-секретарь, Алексей Васильевич Макаров. Царь стал к налою - ореховой конторке, очень высокой, человеку среднего роста по шею, и начал диктовать указы о коллегиях, учреждаемых в России по совету Лейбница, "по образцу и прикладу других цивилизованных государств".
Денщик доложил о переводчике чужестранной коллегии, Василии Козловском. Вошел молодой человек, бледный, чахоточный. Петр отыскал в бумагах и отдал ему перечеркнутую, со многими отметками карандашом на полях, рукопись - трактат о механике.
- Переведено плохо, исправь.
- Ваше величество! - залепетал Козловский, робея и заикаясь. - Сам творец той книги такой стилус положил, что зело трудно разуметь, понеже писал сокращенно и прикрыто, не столько зря на пользу людскую, сколько на субтильность своего философского письма. А мне за краткостью ума моего невозможно понять. Царь терпеливо учил его.
- Не надлежит речь от речи хранить, но самый смысл выразуметь, на свой язык уже так писать, как внятнее, только хранить то, чтобы дело не проронить, а за штилем их не гнаться. Чтобы не праздной ради красоты, но для пользы было! Как говоришь, так и пиши, просто. Понял?
- Точно так, ваше величество! - ответил переводчик, как солдат по команде.
- Ну, ступай с Богом. Явись же со всем усердием. (Полное собрание сочинений Дмитрия Сергеевича Мережковского.Том IV. М. 1914. Стр. 71 - 72)
Так начинается у Мережковского обычный, будничный день Петра.
У А.Н. Толстого день Петра начинается иначе:
"Натянул штаны, шерстяные, пахнущие потом чулки, кряхтя поднялся, застегнул на животе вязаный жилет красной шерсти, вздел в рукава байковую коричневую куртку, швырнул колпак на постель, пригладил пальцами темные волосы и подошел к двери, ступая косолапо и тяжело.
В комнате соседней, более высокой и просторной, с дубовыми балками на потолке, с обшитыми свежим дубом стенами, с небольшим и тяжелым столом, заваленным бумагами, свитками карт, инструментами, отливками железа, чугуна, меди, засыпанным табаком и прожженным, с глобусом и подзорной трубой в углах, с книгами, переплетенными в телячью кожу и валяющимися повсюду - на подоконнике, стульях и полу, - в рабочем этом кабинете царя Петра, где ярко пылала изразцовая печь, стояло семь человек. Одни в военных зеленых сюртуках, жмущих подмышками, другие - в бархатных камзолах. И сюртуки и камзолы, неряшливые, залитые вином, топорщились, сидели мешками. Огромные парики были всклокочены, надеты, как шапки, - криво, из-под черных буклей торчали собственные волосы - рыжеватые, русые, славянские. В свете сырого утра и наплывших светилен лица придворных казались зеленоватыми, обрюзгшими, с резкими морщинами - следами бессонных ночей и водки.
Дверь распахнулась, вошел Петр, и перед ним склонилось низко семь париков. Кивнув, он сел у стола, резко сдвинул в сторону бумаги, опростав для руки место, забарабанил пальцами, и на присутствующих уставились круглые его черные глаза, словно горевшие безумием.
Такова была его манера смотреть. Взгляд впитывал, постигал, проникал пронзительно, мог быть насмешливым, издевательским, гневным. Упаси Бог стоять перед разгневанным его взором! Говорят, курфюрстина Евгения опрокинулась в обморок, когда Петр, громко, всем на смущение, чавкая в Берлине за ужином гусиный фарш, глянул внезапно быстро ей в зрачки. Но еще никто никогда не видел взора его спокойным и тихим, отражающим дно души. И народ, хорошо помнивший в Москве его глаза, говорил, что Петр - антихрист, не человек.
Васька-денщик, дворянский сын Сукин, принес на подносе водки, огурцов и хлеб. Петр принял заскорузлыми пальцами стакан, медленно выпил водку, вытер губы ладонью и стал грызть огурец.
Это был его завтрак. Морщины на лбу разошлись, и рот, красивый, но обезображенный постоянным усилием сдержать гримасу, усмехнулся.
Затем царь прищурился, сморщился и с гримасой проговорил:
- Светлейший князь Меншиков, чай, со вчерашнего дебоширства да поминания Ивашки Хмельницкого головой гораздо оглупел. Поди, поди. Послушаем, как ты врешь с перепою.
Потянув со стола листы с цифрами, он выпустил густой клуб дыма в длинное, перекошенное страхом лицо светлейшего. Но улыбка обманула. Крупный пот выступил на высоком, побагровевшем от гнева лбу Петра. Присутствующие опустили глаза. Не дышали. Господи, пронеси!
- Селитры на сорок рублев, шесть алтын и две деньги. Где селитра? - спрашивал Петр. - Овес, по алтыну четыре деньги, двенадцать тысяч мер. Где овес? Деньги здесь, а овес где?
- Во Пскове, на боярском подворьи, в кулях по сей день, - пробормотал светлейший.
- Врешь!
Храни Никола кого-нибудь шевельнуться! Голову Петра пригнуло к плечу. Рот, щеку, даже глаз перекосило. Князь неосмотрительно, охраняя холеное свое лицо, норовил повернуться спиной, хоть плечиком, но не успел: сорвавшись со стола, огромный царский кулак ударил ему в рот, разбил губы, и из сладких глаз светлейшего брызнувшие слезы смешались с кровью. Он дрожал, не вытираясь. И у всех отлегло от сердца. Толстой завертел даже табакерку в костлявых пальцах. Шаховской издал некий звук губами. Грозу пронесло пустяком. Так началось утро, обычный, буднишний питербурхский денек.
Какой там Мережковский! Как говорится, рядом не лежало.
Петр у А.Н. Толстого высечен (лучше сказать - вырублен) двумя-тремя мощными ударами резца. И он живой, этот Петр.
В сравнении с этой сочной, густой, пластичной прозой анемичная проза Мережковского кажется унылым чистописанием.
Но не будем упрекать Дмитрия Сергеевича за то, что Бог не дал ему такого яркого художественного дара, каким, неведомо почему, наделил А.Н. Толстого. Говорят, Станиславский однажды сказал Михаилу Чехову:
"Ты, Миша, лужа, в которую улыбнулся Бог".
Нам не дано понять, почему, куда и кому вдруг решил улыбнуться Бог. Бог улыбается тому, кому хочет. Взыскующему Христа, богобоязненному Д.С. Мережковскому он не улыбнулся. Улыбнулся беспутному А.Н. Толстому.
Оставив в стороне этот сложный, трудно решаемый (а может быть, даже и вовсе не решаемый) вопрос о том, как, кого и почему Бог решает наградить художественным талантом, задержимся на минутку не на том, какой из этих двух Петров изображен ярче, сочнее, попросту говоря, талантливее, а на том, как отличаются они один от другого самим характером вылепленного художником образа.
Можно ли представить, чтобы такой Петр, каким он изображен А.Н. Толстым в этом раннем его рассказе, "терпеливо учил" переводчика, как тому надлежит переводить на русский язык иноземные книги?
Его Петр так страшен, что во всем тогдашнем, встающем из болот Петербурге только один человек осмеливается без страха и ужаса глядеть на проезжающего мимо него в своей двухколесной таратайке царя, и только для него одного находится у Петра доброе слово:
Через Троицкую площадь шли семеновцы с медными киками на головах, в промокших кафтанах. Солдаты лихо месили по грязи и разом взяли на караул, выкатывая глаза в сторону государя. Чиновники, спешившие по своим делам, пробираясь по настланным вдоль лавок и домишек мосткам, низко снимали шляпы, и ветер трепал букли их париков. Простой народ, в зипунах и овчинах, иные совсем босые, валились на колени прямо в лужи, хотя и был приказ: "ниц перед государем, идя по его государевой надобности, не падать, а снять шляпу, и, стоя, где остановился, быть в пристойном виде, покуда он, государь, пройти не изволит".
Один только толстый булочник, ганноверец, в полосатых штанах, в чистом фартуке, стоя у дверцы булочной, где на ставнях были нарисованы какие-то смешные носатые старички, весело усмехнулся и крикнул, махнув трубкой:
- Гут морген, герр Питер!
И Петр, повернув к нему багровое, круглое лицо, ответил хрипло:
- Гут морген, герр Мюллер!
Только одно слово в этом толстовском рассказе заставляет вспомнить о Мережковском. Слово это для Мережковского главное, ключевое - "Антихрист".
У Толстого его произносит отец Варлаам: пришел, мол, антихрист в образе царя Петра. А царь Петр - не царь, его у немцев подменили, у него лица нет, лицо у него нечеловеческое, и он голову дергает и глазами вертит, и его земля не держит, гнется. И будет этот антихрист всех православных печатать - промеж среднего и большого пальца. Клейма железные раскалят и приложат, а на них крест - только не наш, не христианский.
Солдат, слышавший эти "воровские" речи, крикнул: "Караул!" И ввалился караул, с факелами и оружием наголо. Все стихло. Рослый, крепколицый офицер, оглядывая мужиков со всклокоченными волосами, с разинутыми ртами, двинул треугольную шляпу на лоб и, полуобернувшись к команде, приказал четко и резко:
- Арестовать всех. В Тайную канцелярию!
Так началось огромное и страшное дело о проповеднике антихриста, занявшее много месяцев. И много людей сложило головы на нем, и молва об этом деле далеко прокатилась по России.
Варлаама Петр пытал сам. Тот висел на дыбе. Вывернутые в лопатках, связанные над головой руки его были подтянуты к перекладине ремнем. Для начала ему дали тридцать пять ударов кнутом, а спереди подпалили вениками.
- Не снять ли его, кабы не кончился? - проговорил Толстой, просматривая только что записанное показание.
Вдруг Варлаам проговорил слабым, но ясным голосом:
- Бейте и мучайте меня, за господа нашего Иисуса Христа готов отвечать перед мучителями.
Петр проговорил, разлепив губы:
- Товарищей, товарищей назови.
- Нет у меня товарищей, ни подсобников, токмо вся Расея товарищи мои.
Страшно перекосило рот у царя, запрыгала щека, и голову пригнуло; с шумным дыханием, стиснув зубы, он сдерживал и поборол судорогу. Палач всей силой навалился на бревно, и Варлаам закинул голову. Слышно было, как трещали свечи. Петр поднялся, наконец, подошел к висящему и долго стоял перед ним, точно в раздумьи.
- Варлаам! - проговорил он, и все вздрогнули. Висящий не шевелился. Царь положил ладонь ему на грудь у сердца.
- Снять, - сказал он, - ввернуть руки. На завтра приготовить спицы.
На сегодня пыточные дела закончены. День продолжается. Страшный, хмельной, многотрудный день Петра.
Но к концу дня царь - на сей раз один, без палачей и сподвижников - вновь приходит в Тайную канцелярию, в застенок, где томится измученный, но не сдавшийся Варлаам.
Варлаама привели и оставили с глазу на глаз с государем На углу стола плавал в плошке огонек. Шипели, с трудом разгораясь, дрова в очаге. Петр, в шубе и шапке, сидел глубоко в кресле, облокотясь о поручни, подперев обеими руками голову, словно вдруг и смертельно уставший. Варлаам, выставив бороду, глядел на царя.
- Кто тебе велел слова про меня говорить? - спросил Петр негромко, почти спокойно.
Варлаам вздохнул, переступил босыми ногами. Царь протянул ему раскрытую ладонь:
- На, возьми руку, пощупай, - человек, не дьявол. Варлаам пододвинулся, но ладони не коснулся.
- Рук не могу поднять, свернуты, - сказал он.
- Много вас, Варлаам? Скажи, пытать сейчас не стану, скажи так.
- Много.
Петр опять помолчал.
- Старинные книги читаете, двуперстным крестом спастись хотите? Что же в книгах у вас написано? Скажи.
Варлаам еще пододвинулся. Запекшийся рот его под спутанными усами раскрылся несколько раз, как у рыбы. Он смолчал. Петр повторил:
- Говори, что же ты.
И Варлаам, кашлянув, как перед чтением, и прикрыв воспаленными веками глаза, начал говорить о том, что в книге Кирилла сказано, что "во имя Симона Петра имеет быть гордый князь мира сего - антихрист, и что на генеральном дворе у спасителя не нарисована рука благословляющая, и у образа пресвятые богородицы младенца не написано. Что у графа Головкина у сына красная щека, да у Федора Чемоданова, у сына ж его, пятно черное на щеке, и на том пятне волосы, и что такие люди, сказано, будут во время антихристово.
Петр, казалось, не слушал, подперев кулаками щеку. Когда Варлаам кончил и замолк, он повторил несколько раз в раздумьи:
- Не пойму, не пойму. Лихая беда, действительно. Эка - наплели!.. Тьма непролазная.
И долго глядел на разгоревшиеся поленья. Затем поднялся и стоял, огромный и добрый, перед Варлаамом, который вдруг зашептал, точно смеясь всем сморщенным, обтянутым лицом своим:
- Эх ты, батюшка мой!
Тогда царь стремительно нагнулся к нему, взял за уши и, словно поцеловать желая, обдал жарким табачным и винным дыханием, глубоко заглянул в глаза, проворчал что-то, отвернулся, глубоко надвинул шапку, кашлянул:
- Ну, Варлаам, видно мы не договорились до хорошего. Завтра мучить приду. Прощай.
- Прощай, батюшка!
Варлаам потянулся, как к родному, как к отцу обретенному, как к обреченному на еще большие муки брату своему, но Петр, уже не оборачиваясь, пошел к двери, почти заслонив ее всю широкой спиной.
Вот эту заключающую рассказ, финальную сцену А.Н. Толстой, как видно, и имел в виду, говоря, что, создавая его, он будто бы находился под влиянием Мережковского. И дело тут не только в пронизывающей эту сцену теме антихриста. С Мережковским тут Толстого сближает внезапно обнажившаяся в этой финальной сцене "двуипостасность" Петра. Не в том даже дело, что образ его вдруг раздваивается, и нам на мгновение открывается другая, не страшная, палаческая, а добрая, жалостливая, человечная грань его души. Главное тут - то, что в этой второй своей ипостаси он предстает перед нами уже не палачом, а - жертвой. Бремя, которое он взвалил на себя, оказывается, обрекает его на муки даже еще более страшные, чем те, которые испытывает нещадно пытаемый им Варлаам.
У Мережковского эта тема - едва ли не главная в его трактовке образа великого преобразователя России:
Войдя в спальню, прибавил в лампадку масла и поправил светильню. Пламя затеплилось ярче, и в золотом окладе, вокруг темного Лика в терновом венце, заблестели алмазы, как слезы, рубины, как кровь.
Стал на колени и начал молиться.
Икона была такая привычная, что он уже почти не видел ее и, сам того не сознавая, всегда обращался с молитвой к Отцу, а не к Сыну - не к Богу, умирающему, изливающему кровь Свою на Голгофе, а к Богу живому, крепкому и сильному во брани, Воителю грозному, Победодавцу праведному - Тому, Кто говорит о Себе устами пророка: Я топтал народы в гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое.
Но теперь, когда поднял взор на икону и хотел, как всегда, обратиться с молитвою мимо Сына к Отцу, - не мог. Как будто в первый раз увидел скорбный Лик в терновом венце, и Лик этот ожил и заглянул ему в душу кротким взором; как будто в первый раз понял то, о чем слышал с детства и чего никогда не понимал.
Мысль изнемогала как безумная.
Простится или взыщется на нем эта кровь? И что, если не только на нем, но и на детях его и внуках, и правнуках - на всей России.
Он упал лицом на пол и долго лежал так, распростертый, недвижимый, как мертвый.
Наконец опять поднял взор на икону, но уже с отчаянной, неистовой молитвой мимо Сына к отцу:
- Да падет сия кровь на меня, на меня одного! Казни меня, Боже, - помилуй Россию!
Эта "двуипостасность" образа Петра - единственная точка, в которой Петр из раннего рассказа А.Н. Толстого сближен с Петром Мережковского. Но даже и в этой точке они - эти два Петра - разные.
Петр А.Н. Толстого не терзается мучительными богословскими вопросами. Душа его не раздирается надвое между грозным, яростным Богом- отцом и кротким, милосердным Богом-сыном. Он - реалист до мозга костей, этот Петр.
- На, возьми руку, пощупай! - говорит он Варлааму, предлагая тому убедиться, что он, Петр, - человек, а не дьявол. А на сетования Варлаама, что "на генеральном дворе у спасителя не нарисована рука благословляющая, и у образа пресвятые богородицы младенца не написано. (что, по-видимому, свидетельствует о предпочтении официальной Петровской церковью Бога-отца и умалении прерогатив Бога-сына), реагирует так, как мог бы отреагировать и атеист:
- Эка - наплели!.. Тьма непролазная!
Этот Петр, надо полагать, ближе к реальному, историческому Петру, чем Петр Мережковского, являющий собой скорее "рупор идей автора", нежели живой, полнокровный художественный образ.
- Да падет сия кровь на меня, на меня одного! Казни меня, Боже, - помилуй Россию! - молит у него Петр грозного Бога-отца. И в этой, вложенной автором в его уста мольбе, - предчувствие того, о чем несколько лет спустя уже в полный голос скажет Цветаева:
Не ты б - всё по сугробам санки
Тащил бы мужичок.
Не гнил бы там на полустанке
Последний твой внучок.
Державного однофамильца
Кровь на тебе, бунтарь!
Случилось все-таки, случилось то, что предчувствовал, провидел Петр Мережковского. Кровь, им пролитая, пала не на него одного, а на его потомков, на всю Россию. Слезная мольба его, обращенная к Богу-отцу, не была услышана.
Так у Мережковского, сквозь религиозные терзания его Петра, проглядывает хорошо нам знакомая историческая параллель. Даже у Мережковского она просматривается. Это "даже" выскочило у меня потому, что роман Д.С. Мережковского "Петр и Алексей" был написан до революции. А рассказ А.Н. Толстого "День Петра", как уже было сказано, писался весной 1917 года, когда новая великая российская смута хоть и не вошла еще в полную свою силу, но уже началась.
Никакая историческая параллель тем не менее в этом его рассказе не просматривается.
Вновь обратился он к эпохе Петра спустя одиннадцать лет после того раннего своего рассказа. Это была пьеса. Называлась она "На дыбе". И в самом этом названии теперь уже явственно проглядывала та самая параллель.
"Всю Россию подниму на дыбу! - говорит в этой пьесе А.Н. Толстого Петр.
Пьеса была написана в 1929 году. Можно себе представить, как звучала эта реплика в "год великого перелома", когда Сталин уже прямо приступил к выполнению этого обещания Петра.
Были в этой пьесе и совсем уже прямые переклички с новой эпохой российской истории.
Например, вот такая:
Поспелов (Меншикову). - Боярин?
Меншиков. - Кто таков?
Поспелов. - Васька Поспелов, холоп боярина Лопухова.
- Вижу - ваша сила берет. Бога для - запиши меня
в полк.
Меншиков. - А ты, вижу, боек.
Поспелов. - Не без этого.
Меншиков. - Своей охотой льву в пасть лезешь? Крови, сучий сын, не
боишься? Сто шкур с тебя сдерем, покуда выучим.
Поспелов. - Дери, ништо!
Меншиков. - Владеть мушкетом умеешь?
Поспелов. - В кого хошь - пущу пулю.
Меншиков. - В отца родного?..
Поспелов. - А хоть - в отца.
Реплика боярского холопа, просящего записать его в полк: - Вижу - ваша сила берет!, звучит дико, если вспомнить, что дело происходит в стране, которая в данный момент ни с кем не воюет, и холоп этот - не перебежчик какой-нибудь из одной воюющей армии в другую, а просто хочет всего-навсего служить своему государю. Такая реплика была бы уместна разве во время гражданской войны.
А тут еще другая реплика того же персонажа, в которой он говорит, что готов пустить пулю хоть в родного отца. Она вызывает еще более прямую, уже совсем непосредственную ассоциацию с гражданской войной, - когда брат встает на брата, а сын на родного отца. Ситуация, хорошо нам знакомая:
"Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаша были в тое время у Деникина за командира роты. И по случаю той измены всех нас побрали в плен, и брат Федор Тимофеич попались папаше на глаза. И папаша начали Федю резать, говоря - шкура, красная собака, сукин сын и разно, и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеич не кончился. Вскорости я от папаши убег и прибился до своей части товарища Павличенки.
"и они стали папашу плетить и выстроили во дворе всех бойцов, как принадлежит к военному порядку..
И Тимофей Родионыч зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в богородицу и бить Сеньку по морде, и Семен Тимофеич услали меня со двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу".
(И. Бабель. Конармия.)
Есть в пьесе А.Н. Толстого "На дыбе" и другие сцены, вызывающие даже еще более прямые ассоциации с современностью. И не с отошедшей в прошлое, хоть и совсем недавней (Гражданская война), а с тем, что происходило в том самом 1929 году, когда пьеса эта писалась и предлагалась автором разным театрам для постановки:
Картина третья
Осень. Грязь и снег. Унылые холмы. Покинутая деревня на проезжем тракте. Провалившиеся крыши, поваленные заборы и ворота. На улице - лошадиная падаль. Направо - заезжий двор: яма, шест с пучком сена и обручем. Надпись: трактир. Налево - изба Антона Воробья. Солома с крыши скормлена скотине. Избенка покривилась, в узкое окошечко курится дымок. На улице на верстовом столбе прибита грамота. Перед ней стоит Антон Воробей, тощий мужичок с козлиной бороденкой, босиком, в драном армяке и гречишнике. Появляется Лоскут с котомкой. Останавливается у воза, пересыпает из горсти в горсть, усмехается.
Лоскут. Это что же - у тебя на возу?
Антон. Как - что на возу? Пища.
Лоскут. Так это ж лебеда.
Антон. Ну, лебеда.
Лоскут. Едите?
Антон. Едим.
Лоскут. Хлеб, что ли, у вас не родился?
Антон. Нет, хлеб уродился. Взяли.
Лоскут. А ты б - не отдавал.
Антон. Не отдавал! Меня вон у кабака, почитай, каждую неделю батогами лупят! Есть - которые скрывают. А теперь - казне подавай. Ныне - война, военные поборы, кормовые, дорожные! Царский комиссар подводы спрашивает!
Именно вот так все и происходило в год, когда писалась эта пьеса. Так же наезжали в деревню комиссары (слово это, вошедшее в русскую речь в XVII веке, тут Толстому пришлось очень даже кстати: в сознании читателя и зрителя 1929 года оно, конечно, не могло не вызывать ассоциаций с советскими комиссарами) и отбирали у крестьян весь хлеб - до последнего зернышка. И так же некоторые пытались не дать себя ограбить, скрывали свой урожай, прятали. И так же круто им за это доставалось.
Так надо ли удивляться, что когда Алексей Николаевич предложил эту свою пьесу МХАТу (он даже читал ее артистам основного состава), руководители театра решительно от нее отказались.
Взял пьесу МХАТ 2-й , художественным руководителем которого тогда был Иван Николаевич Берсенев . Он же ее и поставил, и даже сам играл в ней царевича Алексея.
Премьера состоялась 23 февраля 1930 года.
Вот как вспоминает о ней современник, то ли сам оказавшийся в числе зрителей, то ли слышавший рассказ об этом спектакле и происшедших после него событиях из уст очевидцев:
На дневной генеральной репетиции театр был переполнен всеми властями, на коммунистических заставах командующими: от членов Политбюро - во главе с "самим Сталиным" - в ложах, до многочисленных представителей "красной профессуры" в партере и до бесчисленных представителей ГПУ во всех щелях театра. Партер и весь театр смотрели не столько на сцену, сколько на "правительственную ложу" и на "самого Сталина", чтобы уловить, какое впечатление производит пьеса на "хозяина земли русской", и соответственно с этим надо ли ее хвалить или стереть с лица земли. Пьеса подходила уже к концу - и все не удавалось определить настроение "хозяина": сидел спокойно и не аплодировал. Но часа за четверть до конца, когда Петр уже агонизировал, а "Ингерманландия" тонула, произошла сенсация: Сталин встал и, не дождавшись конца пьесы, вышел из ложи. Встревоженный директор и режиссер Берсенев побежал проводить высокого гостя к автомобилю и узнать о судьбе спектакля.
Он имел счастье довольно долго беседовать в фойе с вершителем судеб пьесы и России, и, когда вернулся в зрительный зал, - занавес уже упал при гробовом молчании публики, решившей, что судьба "Петра Первого" уже предрешена.
(Р.В. Иванов-Разумник. Тюрьмы и ссылки. М. 2000. Стр. 71)
Тут я позволю себе прервать рассказ мемуариста и сделать небольшую, как сказано у классика, "верояцию в сторону".
История, которую я собираюсь рассказать, приключилась в XVIII веке. Но не при Петре, а при его правнуке - Павле.
Приключилась она с известным русским комедиографом Василием Васильевичем Капнистом на премьере его комедии "Ябеда".
Я мог бы, конечно, изложить ее своими словами. Но поскольку она уже обрела художественное и даже поэтическое выражение, предоставлю слово избравшему для нее эту форму поэту:
"Капнист пиесу накропал громадного размеру,
И вот он спит - в то время как царь-батюшка не спит:
Он, ночь-полночь, пришел в театр и требует премьеру.
Не знаем, кто его толкнул. История молчит.
Партер и ложи - пусто все: ни блеску, ни кипенья.
Актеры молятся тайком, вслух роли говоря.
Там, где-то в смутной глубине, маячит жуткой тенью
Курносый царь. А с ним еще, кажись, фельдъегеря.
Вот отмахали первый акт. Все тихо, как в могиле.
Но тянет, тянет холодком оттуда (тьфу-тьфу-тьфу!).
"Играть второй!" - пришел приказ, и, с Богом, приступили.
В то время как фельдъегерь: "Есть!" - и кинулся во тьму.
И не успел двух раз моргнуть наш, прямо скажем, Вася,
Как был в овчину облачен и в сани водворен.
Трясли ухабы, тряс мороз, а сам-то как он трясся!
В то время как уж третий акт давали пред царем.
Краснел курносый иль бледнел - впотьмах не видно было.
Фельдъегерь: "Есть!" - и на коня, и у Торжка нагнал:
"Дабы сугубо наказать презренного зоила,
В железо руки заковать, дабы хулы не клал!"
- Но я не клал! - вскричал Капнист, точа скупые слезы.
- Я ж только выставил порок по правилам искусств!
Но я ж его изобличил - за что ж меня в железы?
А в пятом акте истребил - за что ж меня в Иркутск?
Меж тем кузнец его ковал, с похмелья непроворно.
А тут еще один гонец летит во весь опор.
Василь Васильевич Капнист взглянул, вздохнул покорно,
И рухнул русский Ювенал у позлащенных шпор.
Текли часы. Очнулся он, задумчивый и вялый.
Маленько веки разлепил и посмотрел в просвет:
- Что, братец, там за городок: уже Иркутск, пожалуй?
- Пожалуй, барин, Петербург!, - последовал ответ.
- Как Петербург? - шепнул Капнист, лишаясь дара смысла.
- Вас, барин, велено вернуть до вашего двора.
А от морозу и вопче - медвежий полог прислан,
И велено просить и впредь не покладать пера!.
Да! Испарился царский гнев уже в четвертом акте,
Где змей порока пойман был и не сумел уползть.
"Сие мерзавцу поделом!" - царь молвил и в антракте
Послал гонца вернуть творца, обернутого в полсть.
Василь Василич на паркет в чем был из полсти выпал.
И тут ему - и водки штоф, и пряник - закусить.
- У, негодяй! - промолвил царь и - золотом осыпал.
- Пошто заставил ты меня столь много пережить?
Юлий Ким, сочинивший эту балладу, иронически озаглавил ее: "Волшебная сила искусства". Историю, которая легла в ее основу, он, конечно, слегка расцветил своей поэтической фантазией. Но сама история - подлинная. Ему ее рассказал известный наш историк Н.Я. Эйдельман , которому Ким ее и посвятил.
Я еще раз прошу прощения у читателя за это пространное отступление от основного сюжета. Конечно, можно было бы обойтись и без него. Но помимо желания украсить свое повествование забавным и поучительным историческим анекдотом и доставить удовольствие читателю, меня тут привлекла возможность провести еще одну небольшую историческую параллель.
Занавес упал, но публика оставалась на местах, ибо по окончании пьесы тут же, на сцене, должна была состояться "дискуссия", решающая судьбу спектакля. Через немного минут занавес снова поднялся: на сцене стоял стол для президиума и кафедра для ораторов; записалось уже до сорока человек - все больше из состава "красной профессуры".
Заранее можно было предсказать содержание речей: в иных случаях легко быть пророком в своем отечестве. Один за другим выступали "красные профессора", "литературоведы-марксисты", театральные критики-коммунисты - и, стараясь перещеголять друг друга в резкости выражений, обрушивались на пьесу, требуя немедленного ее запрещения. Требовали привлечения к ответственности деятелей Главреперткома, пропустивших к постановке явно контрреволюционную пьесу; обрушивались на театр и режиссера, изобразивших Петра "героически", явно в целях пропаганды монархизма; взывали к "мудрости Сталина", который, конечно же, разглядел всю контрреволюционность спектакля и несомненно запретит распространение его в массах.
В таком же духе высказались в течение часа один за другим десять ораторов, причем каждый последующий старался "увеличить давление" и оставить за флагом всех предыдущих в выражении своих верноподданнических чувств и своего безмерного негодования.
На кафедре появился одиннадцатый оратор, - толстый "красный профессор" с таким же толстым желтым портфелем под мышкой. Он прислонил портфель к подножию кафедры, поднялся на нее - и едва начал речь словами: "Товарищи! в полном согласии с предыдущими ораторами, не нахожу достаточно сильных слов негодования, чтобы заклеймить эту отвратительную контрреволюционную пьесу, в которой так героически подан Петр, явно в целях пропаганды монархизма" - как его перебил директор и режиссер Берсенев, попросивший у председателя слова "с внеочередным заявлением".
Получив его, Берсенев, не поднимаясь на кафедру, где оставался одиннадцатый оратор, а стоя за спиной президиума, сказал приблизительно следующее:
"Товарищи! Французская народная мудрость говорит, что из столкновения мнений рождается истина, - и сегодняшний наш обмен мнениями о спектакле "Петр Первый" несомненно послужит лишним доказательством справедливости этой поговорки.
Я рад, что десять-одиннадцать первых ораторов высказались столь единогласно в своем отрицательном и резком суждении о пьесе, - рад потому, что уверен, что многие из последующих ораторов выскажутся об этой пьесе в смысле совершенно противоположном. По крайней мере мне уже известно одно из таких суждений. Час тому назад товарищ Сталин в беседе со мной высказал такое свое суждение о спектакле:
"Прекрасная пьеса. Жаль только, что Петр выведен недостаточно героически".
Я совершенно уверен, что если не все, то по крайней мере некоторые из последующих ораторов присоединятся к этому мнению товарища Сталина, и таким образом из столкновения мнений родится истина. А теперь прошу меня извинить за то, что я прервал столь поучительный обмен мнениями своим внеочередным заявлением".
Впечатление от этой краткой речи, которой нельзя отказать в ехидстве, было потрясающим. Сначала наступило гробовое продолжительное молчание, затем - вихрь землетрясения, буря оваций и крики:
"Да здравствует товарищ Сталин!"
(Р.В. Иванов-Разумник. Тюрьмы и ссылки. М. 2000. Стр. 71-73)
Иванов-Разумник, конечно, тоже расцветил свою историю, слегка - а может быть, даже и не слегка - беллетризовал ее. (Как Юлий Ким рассказанную ему Эйдельманом.) Но подлинность самого факта сомнений не вызывает. На сей счет у нас имеется подтверждение главного героя этой драматической коллизии:
Постановка первого варианта "Петра" во 2-м МХАТе была встречена РАППом в штыки, и ее спас товарищ Сталин, тогда еще, в 1929 году, давший правильную историческую установку петровской эпохе.
(А.Н. Толстой. Автобиография)
Реплика Алексея Николаевича насчет того, что пьеса была встречена РАППом в штыки, дает весьма бледное представление о той бешеной злобе, с какой говорили и писали об этой его пьесе рапповские "неистовые ревнители".
Приведу лишь несколько строк из статьи рапповского критика И. Бачелиса , появившейся в те дни в "Комсомольской правде". Статья называлась: "Для чего сие?":
Пьеса А.Н. Толстого - бывшего графа - вчерашнего певца разорившегося дворянства, до последнего времени числившегося в рядах мелкобуржуазных попутчиков, злобная, бешеная вылазка классового врага, прикрытая искусной маской "историчности" искусно замаскированная контрреволюционная вылазка, во много раз более активная, чем "Дни Турбиных" или "Багровый остров".
(Ю.А. Крестинский. А.Н. Толстой. Жизнь и творчество. М. 1960. Стр. 182)
В таком же духе и, надо полагать, в тех же выражениях собирались высказываться и пришедшие на ту премьеру толстовской пьесы "красные профессора".
Иванов-Разумник, беллетризуя свой рассказ об этом обсуждении, подчеркивает и даже выпячивает, выводит на первый план одну, как ему, видимо, представляется, главную смысловую сторону излагаемого им сюжета: сервильность, угодливость "красных профессоров", лакейскую их готовность "поменять пластинку", с пафосом прославлять то, что только что проклинали, и с тем же пафосом проклясть то, что только что славили.
Он расцвечивает эту тему все новыми и новыми подробностями:
"вихрь землетрясения, буря оваций и крики:
"Да здравствует товарищ Сталин!"
Волной этого землетрясения был начисто смыт с кафедры толстый "красный профессор? - исчез неведомо куда, забыв даже свой толстый желтый портфель у подножия кафедры. (Берсенев потом рассказывал, что портфель этот три дня лежал в конторе театра, пока за ним не явились от имени толстого "красного профессора".)
Его сменил на кафедре новый, двенадцатый оратор, очередной "красный профессор", который начал свою речь примерно так:
"Товарищи! Слова бессильны передать то чувство глубочайшего возмущения, с которым я прослушал речи всех предыдущих ораторов. Как! Отрицательно относиться к замечательной прослушанной и виденной нами сегодня пьесе, о которой товарищ Сталин так верно и мудро сказал: "Прекрасная пьеса". Как! Считать героической фигуру Петра, про которую товарищ Сталин так мудро и верно заметил, что он выведен недостаточно героически, - в чем, действительно, единственная ошибка и автора, и театра.
Стоит ли досказывать? Ну, конечно же, и само собой понятно, что все последующие ораторы "всецело присоединились к мудрому суждению товарища Сталина". Что они клеймили негодованием контрреволюционные выступления десяти первых ораторов, что пьеса была единогласно разрешена к постановке".
Ну разве не пророчески прав был Герцен? Какая замечательная лестница восходящих господ, если смотреть снизу, и лестница нисходящих лакеев, если смотреть сверху.
(Р.В. Иванов-Разумник. Тюрьмы и ссылки. М. 2000. Стр. 74)
Всё так. И эта сторона дела, конечно, тоже важна. Но нас такими сценами не удивишь. Все это, между нами говоря, довольно-таки банально и повторяется из века в век в любом авторитарном, деспотическом государстве.
Самое же важное и интересное в этом рассказе Иванова-Разумника совсем другое. Не то, с какой легкостью и быстротой красные профессора "сменили пластинку", а КАКУЮ "пластинку" они так легко и радостно отринули и КАКОЙ ее заменили.
Если не вникнуть в существо дела, может создаться впечатление, что в неожиданной реакции Сталина проявился просто каприз вождя. Может быть, желание поиздеваться, поглумиться над лакействующими "красными профессорами". Или другие какие-нибудь, столь же мелкие, может быть, даже личные мотивы.
Именно так, кстати говоря, понял и объяснил эту ситуацию один из главных тогдашних "литвождей" - Иван Михайлович Гронский :
Во время одной из встреч с Бедным в Мамонтовке он прочитал мне "Богатырей". Я тогда куда-то уезжал надолго и просил Демьяна никому не показывать пьесы. По возвращении в Москву я надеялся обсудить все с Демьяном. Таиров, который рассчитывал на очередную победу, как с "Оптимистической трагедией", взял эту пьесу к постановке. Когда я вернулся в Москву, то был приглашен на генеральную репетицию, на которую я не смог попасть, а был на премьере. Спектакль мне не очень понравился. По правде сказать, много было там накручено. Конечно, реакция на спектакль могла быть значительно мягче. Или вообще оставить этот спектакль без внимания, как, например, было с пьесой Алексея Толстого "На дыбе". Но Сталин был заинтересован, чтобы окончательно "задвинуть" Бедного.
(Вячеслав Нечаев. Ненаписанные воспоминания. Беседы с И.М. Гронским. "Минувшее. Исторический альманах. 16?. М. - СПб. 1994. Стр. 105-106)
Гром над "Богатырями" Демьяна Бедного грянул позже - в 1936-м. Но первый погром Демьяну Сталин учинил в том самом 1930-м, в котором состоялась премьера пьесы А.Н. Толстого. В том, первом постановлении ЦК об идеологических ошибках Демьяна Бедного речь шла о его стихотворных фельетонах "Слезай с печки", "Без пощады", "Перерва". Но обвинения были те же, которые были ему предъявлены шесть лет спустя по поводу "Богатырей". Так что Гронский не случайно связал в своей памяти реакцию Сталина на пьесу А.Н. Толстого "На дыбе" с его реакцией на Демьяновых "Богатырей".
Идеологическая уязвимость пьесы А.Н. Толстого, как представлялось Гронскому, была того же свойства, что идейные пороки стихотворных фельетонов и "Богатырей" Демьяна Бедного.
Но А.Н. Толстого Сталин почему-то пощадил, а Демьяна стер в порошок. Сделал он это, как полагает Гронский, исключительно по личным мотивам:
"Сталин был заинтересован, чтобы окончательно "задвинуть" Бедного".
Такой личный мотив, как мы знаем, у Сталина действительно был. Но главная причина разгрома, которому подвергся Демьян - и в 1930-м, и в 1936-м, - так же, как главная причина неожиданной реакции Сталина на пьесу А.Н. Толстого "На дыбе", заключалась в другом.
Это было начало того идеологического "поворота всем вдруг" , который завершился, во всяком случае, окончательно оформился уже в годы войны - роспуском Коминтерна, сменой государственного гимна (вместо "Никто не даст нам избавленья, ни Бог, ни царь и ни герой" - "Нас вырастил Сталин на верность народу"), тостом Сталина "За великий русский народ? и многими другими - большими и малыми - знаками кардинальной смены идеологической парадигмы. Армии вернули погоны. Наркомы стали министрами. В школах было введено раздельное обучение и даже введена для школьников форма старых русских гимназий. Слегка укротили воинствующих безбожников и вернули кое-какие права Церкви.
Эстетическим идеалом Сталина был фасад Российской империи: старая русская военная форма с погонами, деньги, похожие на царские трешки и пятерки, "царский" портрет генералиссимуса на здании Моссовета (левая нога на полшага впереди правой, в левой руке перчатки).
Полностью реализовать этот свой политический и эстетический идеал Сталину позволила война, сразу названная и ставшая Отечественной .
Все понимали, что за колхозы, за сталинский социализм никто умирать не станет. Иное дело - за Родину, за Россию!
Никого поэтому не удивило и не шокировало обращение Сталина к "теням наших великих предков" - Суворова и Кутузова, Минина и Пожарского, Дмитрия Донского и Александра Невского.
Никого не шокировало даже то, что наряду с этими великими тенями нас по-прежнему осеняли другие тени - тени великих бунтарей и революционеров.
Советский идеологический иконостас долго еще являл собой весьма странное зрелище: рядом с Суворовым и Кутузовым на нем красовались изображения предводителей крестьянских бунтов и восстаний - Степана Разина, Ивана Болотникова, Емельяна Пугачева. И мало кому при этом приходило в голову, что плененного Пугачева привез в Москву в железной клетке не кто иной, как вот этот самый Суворов.
Такую же дикую смесь разных, трудносовместимых идеологических парадигм являла собой эстетика советских исторических фильмов. Достаточно вспомнить только один из них, самый популярный в предвоенные годы - "Александр Невский" :
Можно было бы до мельчайших подробностей, до ничтожных деталей пейзажа, жестов второстепенных лиц и складок одежды, до последнего такта великолепной музыки Прокофьева проследить, каким образом слово и буква идеологии нашли свое воплощение в этом фильме. Перед нами нечто в своем роде совершенное, шедевр политической низости; как во всяком шедевре, в нем нет ничего лишнего и случайного, фильм, получивший всенародное признание, напоминает произведения немецкой кинематографии и литературы времен национал-социализма, но в русском варианте. Князь выглядит славянским арийцем. Он снят так, что всегда кажется выше всех остальных и выше зрителя. Его язык представляет собой смесь архаически-народного словаря с языком газеты. Он враг богачей, друг, учитель и вождь беззаветно преданного ему народа и, судя по всему, атеист. В Новгороде тринадцатого века вообще нет никаких следов христианства, если не считать колокольного звона, который, однако, созывает людей не в храмы, а на городскую площадь, где князь выступает с речью, в которой клеймит врагов народа и изменников родины (процессы 1937 - 1938 гг.).
Изменниками оказываются эксплуататоры народа - богатые купцы.
(Борис Хазанов)
Ссылки: