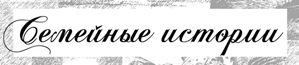 |
Горький: реальные мысли о возвращении в Россию, обыск в Италии
Так же Горький работал по утрам, читал газеты, журналы, книги, чужие рукописи. Так же ходил гулять с фокстерьером и восхищался итальянским небом, людьми, климатом, музыкой и пейзажем, расстилавшимся перед его балконом. Так же Мура выезжала три раза в год "к детям", и Максим клеил марки в альбом (у него была прекрасная коллекция) и ездил (и катал всех, кто хотел) на своем мотоцикле, тяжелом, устойчивом "Харлей- Дэвидсоне". Так же приезжали гости и останавливались в гостинице Минерва, напротив виллы "Иль Сорито", на той же извилистой дороге, ведущей из Сорренто через Капо-ди-Сорренто к чудным, тогда еще пустынным местам, лежащим напротив Капри, смотрящим на запад, на заход медленного солнца. Так же приезжает в январе Валентина , которая живет в доме, пишет портреты (Горького и мой) и учит нас танцевать чарльстон, которому научил ее недавно Маяковский . Но этот период положил грань между первой и второй частью жизни Горького за границей, когда в его сознании появились реальные мысли о возвращении в Россию. Они были особенно сильны после прекращения платежей Парвуса - между последним его платежом и первым авансом Госиздата. В свете смерти Ленина Горький переоценил свое отношение к Октябрьской революции и к первым годам большевизма, роль Ленина, его правоту и свои собственные ошибки. Он теперь забыл все свои расхождения, все обиды и счеты и поддался всеобщему вокруг него возвеличиванию Ильича; он искренне начал считать, что осиротел вместе со всей Россией, или даже вместе со всем миром, и, обливаясь слезами, говорил о нем. Он писал свои воспоминания плача и читал их корректуры в "Русском современнике" плача, когда они, после одобрения их Мурой, Максимом, Пе-пе-крю, Марией Федоровной и Екатериной Павловной, были набраны петроградским журналом [ 50 ]. В этой первой редакции, само собой разумеется, не упоминалось об истории растраты Парвуса. В это время Госиздату особенно легко было уговорить Горького (через Крючкова и Ладыжникова) подписать контракт на полное собрание его сочинений, что он и сделал под дружным давлением Муры, Максима и остальных. Ек. П. в это время как раз была в Сорренто.
"Полное" собрание сочинений значило не только 30 или 25 томов его сочинений, находящихся в руках издательства "Книга", но и все, что будет написано им в дальнейшем, и все старое, что будет напечатано отдельными сборниками. Это сначала не было понято Горьким, он пытался даже доказывать, что есть вещи, им написанные, которые он "обещал" дать издать Гржебину или Сумскому , но Ладыжников объяснил ему, что этого сделать он не может и что он сам, Ладыжников, поступает служить в Госиздат, в его берлинское отделение; и если Гржебин и Сумский хотят идти в суд, то пусть идут - вмешиваться в эти дела Горькому не следует.
Оба эти издателя были теперь накануне разорения. "Беседа" , все больше запаздывая с выходом, едва дышала, и, несмотря на ложные слухи о допущении журнала в Россию, о которых так весело писала Ходасевичу Мура, в начале 1925 года вышел двойной (шестой - седьмой) и последний номер. Журнал "Беседа" в России был запрещен . Госиздат через берлинское торгпредство сигнализировал, что время каких-то примирений между писателями "там" и "здесь" прошло, и, если отчетливая граница между писателями эмиграции и советской России сама не пройдет, они сумеют ее провести раз и навсегда.
Таким образом, завязывался сложный экономический узел, который привел Горького - медленно и мучительно - к решению вернуться. Смерть Парвуса и прекращение выплаты его долга; отказ допустить "Беседу" в Россию; постепенная потеря читателя - особенно молодого - в Германии, Франции, Англии, США и идущие под гору тиражи его книг на иностранных языках; трудность получения денег от этих издательств, чувство, что процесс падения интереса к нему необратим и может только усилиться, и постоянная, как следствие этого, нехватка в деньгах заставили его повернуть свое внимание в другую сторону. Госиздат торопил его вернуться на родину. Он старался выполнить все пункты нового контракта; из России в редком письме не было настойчивого вопроса, когда же он приедет домой, где его любят и ценят; безделье Максима, которому скоро будет тридцать лет, и его игры, которым пора было прекратиться, и беременность Тимоши, и, может быть, отношение к нему Муры и ее поведение, которое было не совсем таким, каким оно воображалось ему, когда она тогда наконец приехала к нему в Херингсдорф. Решение принималось постепенно, можно сказать, что в 1926 году оно было принято, но исполнено оно было только в 1928-м. Зато его переводы на языки российских меньшинств , издаваемые специальным отделом Госиздата в Москве, росли с каждым месяцем: его переводили на туркменский, украинский, марийский, татарский, удмуртский и другие языки, и так как в это время начал работать закон "принудительного ассортимента" , то и тиражи были достаточно внушительными. Для него всегда хватало бумаги, и он об этом мог не беспокоиться. В это время в Сорренто приехал Андре Жермен , французский литературный агент Горького и один из директоров Лионского Кредита. Он был фигурой комической, не умел сам себе мыть руки, говорил тонким голосом и не расставался ни на минуту со своим не то секретарем, не то лакеем. Ходасевич написал о нем как об одном из первых представителей "салонного большевизма", которых в 1930-х годах было очень много в Европе. Валентина пишет, что Андре Жермен привез французский контракт и Горький едва не подписал его. Вмешалась Мура: она внимательно прочла бумагу и увидела, что директор Лионского Кредита брал себе 65% горьковских гонораров, оставляя Горькому 35%. Это теперь случалось нередко. Без нее (и в отсутствие Крючкова и Ладыжникова) он, вероятно, совершенно запутался бы в своих денежных делах, контрактах и условиях. Он начал сердитый спор, когда дошло дело до издания "Дела Артамоновых": Мура объяснила ему, что, подписав контракт с Госиздатом, он не может печатать роман ни у Гржебина, ни у Сумского. Улаживать, примирять, терпеливо объяснить уже не раз объясненное было ее главной доблестью, и все это знали, но один случай остался загадочным и едва не нарушил безоблачные отношения ее с Максимом. В феврале на семейном совете было решено продать у Сотби, крупного лондонского аукционщика, горьковскую коллекцию нефритовых фигур . Это было сделано ввиду первой задержки в пересылке денег Госиздата (позже их было довольно много) и отчаяния Ладыжникова, который не знал, как реагировать на просьбы Горького о деньгах. Враги давно говорили, что Горький присвоил себе коллекцию из Эрмитажа в 1918 году, "спасая художественные ценности". Это была клевета. Слухи ходили, что какой- то царский генерал, будучи в 1904 году в Ляояне по делам сколь политическим, столь и коммерческим, восхитился этой коллекцией и попросил китайцев ему ее подарить, что они с радостью и сделали. В октябре 1917 года она была у него изъята (комиссией, в которой в это время работали многие из друзей Горького, в том числе А. Р. Дидерихс и водворена в Эрмитаж, откуда была убрана и преподнесена Горькому. Третьи считали, что коллекция никогда не принадлежала Эрмитажу, что в Эрмитаже имеется другая коллекция нефрита, а эта, горьковская, была дана ему на хранение директором Петербургского частного коммерческого банка Э. К. Груббе, давшим Горькому деньги на "Новую жизнь" и уехавшим после Октября в Европу. Через 4 года, когда Горький выехал и вывез коллекцию за границу, Груббе отказался от нее и подарил ее Горькому. Как бы там ни было, деревянный ящик с крючками и замочком выволокли из-под кровати Соловья, и в день приезда фотографа из Неаполя Максим позвал меня, чтобы расставить на обеденном столе, на фоне красного бархата, двадцать три фигуры, от маленькой, сантиметров в двенадцать высотой, до крупных, сантиметров в двадцать и выше.
Фотограф приехал с огромным старинным аппаратом, похожим на сундук, и, накрывшись черной простыней, стал налаживать объектив. Максим просил меня никуда не отлучаться. Сам он решил быть все время при фотографе и не спускать с него глаз, а моя роль заключалась в том, чтобы я была недалеко, в комнате или рядом, если вдруг Максиму понадобится помощь. Горький заглянул в дверь, но Максим замахал на него руками. Фотограф прилаживался долго, потом ему дали закусить, потом он вернулся. Максим стоял подле фигур, я ходила из столовой в прихожую и из прихожей - в столовую. Мура вышла из своей комнаты полюбоваться на коллекцию, переставила фигуры по-своему, улыбнулась фотографу и ушла. Наконец, фигуры все были сняты и черная простыня сложена пакетом, аппарат уложен в футляр красного дерева, и Максим пошел к мотоциклу отвозить фотографа в город. Я крикнула ему, что фигур не двадцать три, а двадцать две. Он посмотрел на счет, который фотограф дал ему. Были сняты двадцать две фигуры. Я сейчас же поняла, что Максим ошибся при счете, но Максим не соглашался со мной. Он пошел к Муре в комнату и сказал:
- Титка, отдай нефрит. Она вышла к нему, она не понимала, чего он требует. Максим считал, что она шутит с ним шутки, но она никаких шуток не собиралась шутить. В воздухе повисла тяжелая неловкость. Мы вдвоем с ним молча собрали фигуры и уложили их в ящик. Я сказала ему: С самого начала было двадцать две фигуры, не двадцать три. Это совершенно ясно. Максим спорил со мной: так ошибиться он не мог. И фотограф не мог украсть - он с него глаз не сводил. Да, сказала я, и все- таки каждый человек может обсчитаться. В этом никакой беды нет.
На этом история с нефритом кончилась, он был послан в Лондон и там продан. Мура в эту первую итальянскую зиму казалась всегда озабоченной, и причин для этого было много. Сестра Алла в Париже, Будберг в Аргентине, дети в Таллинне - деньги только отчасти могли приглушить постоянную тревогу: "что будет? как все устроится? и устроится ли?" И здоровье Горького: он болел в январе, когда ее не было, Тимоша и я поочередно день и ночь дежурили около него. В больницу ложиться он не хотел. Доктор растерянно уверял нас, что только больница может его спасти. Когда Мура вернулась, он все еще едва стоял на ногах. Случай с тремя переводными неудачами словно выбил у нее почву из- под ног. Смерть Парвуса ставила вопросительный знак над прочностью этого общего устройства жизни, которое оказалось совсем не так прочно, как все думали. Госиздат? Он может оказаться соломинкой, за которую утопающий не удержится, или он может оказаться гранитной скалой,- все зависит от того, как будет себя вести утопающий. Могут из Москвы поставить ультиматум: или возвращайтесь, или мы прекращаем платежи. Максим в этом деле ее союзник, но сделать он ничего не может. Мария Федоровна может помочь и помогает, и Екатерина Павловна в Москве тоже. В лето после нашего отъезда (в 1925 году) Мура не поехала "к детям", они приехали к ней.
См. дети Муры В это лето особенно много было гостей, пансион "Минерва" был всегда полон: приезжал Мейерхольд с Зинаидой Райх , Ник. Ал. Бенуа , главный декоратор миланского театра "Ла Скала", певица Зоя Лодий , Вячеслав Иванов и многие другие. Для увеселения гостей, и особенно - детей, накануне их отъезда был нанят катер и была устроена поездка по Неаполитанскому заливу - Капри, Иския, Позилиппо, Неаполь, Кастелламаре. Но нервы Горького, пишет Валентина в своих воспоминаниях, "были в беспорядке по многим причинам". Она также рассказывает, что, когда наконец все разъехались, у Тимоши начались родовые схватки. Максим съездил за льдом (был исключительно жаркий день) и, сложив его в тени под лестницей, поставил в него пиво. Все были в большом волнении, ничего не было готово, и доктора достали с трудом. На этот раз Ек.П. приехала 12 сентября, опоздав к родам невестки. А через пять дней после приезда ей пришлось быть свидетельницей события, вероятно, еще ускорившего решение Горького вернуться в Россию:
Ссылки: