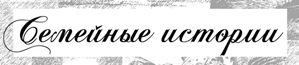 |
Чернавина Т. Дорога в УСЛОН
Октябрьский вокзал, бывший Николаевский, теперь Московский . Большевики любят менять названия. Двенадцать часов ночи. На Москву отходит "Красная стрела" - курьерский, на котором ездит вся советская знать и иностранцы. Видны международные вагоны, "мягкие" вагоны, - иначе говоря, первого и второго класса; все ярко освещено. Публика - с чемоданами, кожаными портфелями. Несколько советских дам (называются теперь сов-барыни) в котиковых манто, в шубах с огромными меховыми воротниками, в крохотных шляпках.
На Мурманск - Кемь поезд идет с деревянной платформы. На перроне темно. Все занято тяжкой, простонародной толпой с мешками, самодельными сундучками, невероятными узлами, из которых торчат заплатанные валенки. Много мужиков с топорами и пилами. Много баб с малыми ребятами, одетыми в лохмотья, укрученными в обрывки старых платков и тряпок. Куда едут, на что едут - страшно подумать.
С политикой уничтожения "кулака как класса" все сбиты с места и шатаются по всей Руси великой, потому что на своей родине - смерть верная и скорая, на чужой стороне тоже смерть, но на ходу не так страшно умирать. Многих выгоняют из домов насильно - " раскулачивают ", многие бредут сами в надежде, что где-то дают хлеба кило на день.
Что жить придется за Полярным кругом, в землянках или насквозь промерзающих бараках, что ребятишки перемрут за зиму, об этом не знают и не думают. Все равно - один конец. В вагонаx почти полный мрак. Народу набивается на пассажирские и багажные полки столько, что видишь только отовсюду торчащие ноги, головы, обезображенные тяжкой работой руки. Между лавочками все загорожено сундуками и узлами, на которых спят и сидят, скучая, дети, худые, бледные, грязные, безжизненные и покорные.
На весь поезд есть один "мягкий" вагон, где в отдельных купе всегда едут гепеустский курьер и кое-кто из советских служащих покрупней, и один вагон "жесткий плацкартный", где едут служащие помельче и родные на свидание, если только у них хватает денег оплатить плацкарту.
Когда собираешься в поездку, кажется, что ты один такой, а как только войдешь в вагон, сразу видишь "своего брата". Когда человек настрадался, у него делаются особенные глаза. Этого словами не объяснишь, но я безошибочно узнавала таких людей повсюду: в трамвае, в поезде, на улице.
Меня, должно быть, узнавали тоже, потому что, как только мы проехали Петрозаводск, и посторонних пассажиров стало меньше, моя соседка обратилась ко мне с вопросом, из которого сразу все становилось понятным:
- Вы в Кемь? В Кеми тысячи две - три жителей, местных рыбаков, которые целыми поколениями никуда не выезжают, и тысяч десять заключенных, к которым родные тянутся на свидание, хотя бы для этого надо было предварительно работать до ночи и голодать весь год.
- А вы?
- В Майгубу.
- В Майгубу? - переспрашиваю я, потому что название звучит так странно.
- Там новый лагерь. Говорят, приготовления на случай войны: из Кеми масса заключенных переведена в разные пункты вдоль железной дороги. Бараков даже нет, всю зиму будут жить в брезентовых палатках. Везу кое- что теплое, что могла собрать. Но, Господи, разве спасешь одной фуфайкой да двумя парами носков, когда всю зиму будут на морозе?.. Бараки приказали строить в сентябре: рубили сырой лес, но успели сложить только дома для надзирателей и женский барак. С лета будут строить казармы, которые могли бы годиться для солдат.
- Где же вы остановитесь?
- В женском бараке. Позволяют, потому что деваться некуда: ни поселка кругом, ни избы, ничего нет. Лагерь в трех километрах от железной дороги.
- Как же вы пойдете? Поезд ночью приходит.
- В час ночи. Так и пойду. Может быть, еще попутчики найдутся, а то и одна побреду. Я - старуха. Там лес, болота, никого нет. А если б и пристукнул кто, спасибо бы сказала. Сил нет. Жалко только мальчишку своего, ему двадцати лет нет, а то и ждать бы смерти не стала. Она была совсем не старуха, всего лет сорок - сорок пять, но, когда она засыпала, и седые пряди падали вдоль худого бледного лица, видно было, что ей и в самом деле милее лечь в могилу, чем тащить на себе непомерный груз боли.
- Вы одна? - спросила я ее.
- Одна. Муж умер. Думала, сын поддержит, у меня с легкими неладно. Боюсь, что к весне и у него откроется чахотка. Подумайте, подумайте вы только, - не удержалась она, хотя все всегда стараются молчать о своих сосланных, чтобы как-нибудь им не навредить, хотя бы только выражением своего горя.
Арестовали в семнадцать лет. Эсер . Скажите, что это может быть за эсер в семнадцать лет? Умный мальчик, всегда все знал, всех любил. Противник советской власти? Да он другой власти и не видал! Господи, хоть бы конец! Не жить ему теперь. Простите, что выкладываю вам свое горе, когда у вас свое? Муж?
- Да. Пять лет.
- Взрослые скорее выживают, чем такой подросток, как мой. Ах, я просто с ума схожу каждый раз, как еду: видеть сына на каторге? За что? Господи, за что?.. Об одном мечтаю, чтобы там, около него, дали остаться. В каторгу бы пошла, только бы его видеть. Нельзя. Дадут пять - семь дней, и прочь. Еду назад, служить, учить таких же ребят, как он, только чтобы тот, кто поумнее, попал тоже на каторгу? Хотела из учительниц уйти служить на почту, чтоб хоть мальчишек таких не видеть, не пускает биржа труда, - слишком большой у меня педагогический стаж!
- Некрасовских "Русских женщин" помните? - спросила, перегнувшись с верхней полки, другая соседка. Она была молода, довольно нарядно одета, и у нее были артистические манеры, но по выражению глаз, за которыми была своя непрестанная дума, я сразу заподозрила в ней "свою".
- Какая роскошь была! - продолжала она. - Император гневался, но жены ехали к мужьям в своих возках. Жили там по-настоящему, может быть, внутренне лучше, чем в Петербурге, детей рожали. Да и сколько их было по сравнению с нами?.. Сущие пустяки.
- Не занимайтесь монархической пропагандой, - пошутила я.
- Вы в первый раз? - спросила она, серьезно вглядываясь в меня.
- В первый. Меня саму недавно выпустили.
- Счастливица. Без вас и выслали?
- Без меня.
- Теперь я понимаю, почему вы можете еще шутить. Я, да, в тюрьме еще не сидела, но после того, что пережили мы на воле - последнее свидание из-за решеток, как со зверями; все дни на улице, чтобы укараулить, когда выведут этапную партию, ох!.. Потом на вокзал, видеть из-за кордона, как их затискивают в поезд! Мне казалось, что тюрьма - это вроде санатория, - неожиданно закончила она.
- Может быть, оно и так, - отвечала я, стараясь добросовестно оценить наше с ней положение, - если б только не было следователей и риска самой уйти по этапу и оставить мальчишку одного. Она приподнялась на локте и взглянула на моего мальчонку, который спал на деревянной скамейке, подложив шапку под голову, и тщетно натягивал на себя короткое пальтишко, под которым мерзли то плечи, то ноги. Я сняла с себя вязаную кофту, завернула его. Он, не просыпаясь, по детской привычке, послушно подчинился моим рукам.
- Теперь детей иметь нельзя,- сказала моя верхняя соседка. Простите, это я про себя подумала,- спохватилась она.
- Сейчас вообще жить нельзя,- мрачно отозвалась учительница. Мы замолчали, стучали колеса. Старые, тряские вагоны скрипели, поломанная дверца у фонаря открывалась и хлопала. Если бы не этот шум, было бы совсем как в тюрьме: как мы лежали там - без сна на жестких койках, - так и здесь. Как говорили там, всегда кончая одним и тем же - не стоит жить, - так и здесь, будто встречались снова и повторяли сто раз сказанные слова. Мне даже странно было себе представить, что мои соседки не были со мной в тюрьме.
- Кондуктор, мы опаздываем? - раздался чей-то почти детский голос за стенкой, рядом с нами.
- Было опоздание на два часа, сейчас нагоняем,- отвечал кондуктор. - Не беспокойтесь, гражданочка, разбужу.
- Мне спать совсем не хочется,- звонко, возбужденно звенел ее голосок.
- Вы видели наших соседок? - спросила меня шепотом спутница с верхней полки.
- Нет. А что?
- Пойдите и взгляните. Замечательная старуха. Я вышла в проход и села около окна, откуда мне были видны соседние места. На нижней лавке, согнувшись и опираясь обеими руками на палку, сидела высокая старая женщина в роскошной черной шубе и большом черном шелковом платке, надетом поверх черной бархатной грузинской шапочки. Руки у нее были поразительно белые; правую украшали тяжелые кольца и ярким зеленым блеском горел бриллиант, на который падал свет вагонного фонаря.
- Бабушка,- говорила высокая, худенькая девочка, подсаживаясь к ней.
- Бабушка, мы только через пять часов приедем, лягте. Старуха не отвечала и не двигалась.
- Бабушка, маму мы все равно можем увидеть только утром, отдохните. Мне спать не хочется, а вы устанете. Старуха сидела, как мрачное изваяние, и даже бриллиант на ее руке не дрогнул. Девочка села против старухи и сложила перед ней руки, как на молитве.
- Бабушка - у нее голос дрогнул, и она ничего не могла выговорить. Старуха резко подняла голову, сверкнула на нее страдающими, гневными глазами и опять склонилась над своей клюкой с серебряным набалдашником. Девочка закрыла лицо руками и легла ничком на лавку. Я отошла к своему месту.
- Хороша? - шепнула мне верхняя соседка, которая тоже следила за этим трагичным диалогом. Я кивнула головой.
- Как царица! Я так представляю себе - последняя грузинская царица. Мой муж - музыкант. Если бы он ее увидел, он написал бы музыку. Я - не могу; вижу, чувствую, кажется, даже слышу, а передать не умею.
- А старуха к кому едет?
- К дочери. Мне девочка сказала, когда мы с ней вместе бегали за кипятком. Отец и мать сосланы; они только вдвоем остались. Бабушка ни с кем не говорит с тех пор, как дочь услали. Теперь сказала ей: "Едем, я скоро умру", вот они и едут. А там, в лагерях, грузинам ужасно: они совершенно не переносят климата и все гибнут от чахотки, если не умрут от воспаления легких. Армяне крепче, но тоже не выдерживают. Ох, не знаете вы еще, что значит туда ехать!.. Что ваш мальчик думает?
- Не могу себе представить. Он знает все, но что в нем заросло, а что еще вырастет, сказать трудно.
- Мальчишка у вас молодец: за всю дорогу ни одного неосторожного слова.
- Выучили и его молчать. Вскоре она вышла из вагона, распростившись, как будто мы были сестрами. Жутко было отпускать женщину в полную темь, на пустую станцию. Остались только грозная старуха с внучкой и я с сыном. Ребята спали; старуха сидела, как каменная, я забилась в угол и дрожала, как в лихорадке.
- Идиотка,- говорила я себе. - Если бы в тюрьме мне сказали, что смогу поехать к мужу, что я его увижу, неужели у меня было бы другое чувство, кроме радости? Одна мысль была: только бы увидеть, еще раз увидеть. Старуха тоже едет, только чтобы в последний раз увидеть. Больше нам ничего не осталось в этой жизни. Но она спокойна, а меня всю трясет от волнения, обиды, негодования на тех, кто всю страну залил таким страданием, что удивительно, как стоном оно не стоит. Точка. Больше не думать. Через час Кемь. Пора привести себя в порядок.
Ссылки: