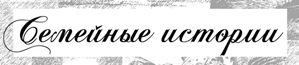 |
Поиски провокатора. Допрос и приговор Татарову
Чернов. Вспомните.
Татаров. Не помню.
Чернов. На какой улице эта гостиница? Татаров. Не помню.
Чернов. Хорошо. Запишем в протокол: не помнит ни названия гостиницы, ни улицы, ни номера комнаты и фамилии еще не имеет. После недолгого молчания Татаров говорит:
- Я вам солгал.
Чернов. Почему?
Татаров. Мы не дети. Я живу с женщиной. Скрывая свой адрес, я защищаю ее честь. Впрочем, хотите, я назову вам ее.
Чернов. Нет.
Татаров волнуется. Ответы его становятся еще страннее.
Чернов. Скажите, чем обеспечено ваше издание в отношении цензуры?
Татаров. Мне обещал покровительство один из людей, имеющих власть.
Чернов. Кто именно?
Татаров. Один князь.
Чернов. Какой князь?
Татаров. Князь.
Чернов. Мы просим сообщить нам его фамилию.
Татаров. Зачем? Я сказал князь. Этого довольно.
Чернов. По постановлению центрального комитета мы предлагаем вам сказать его фамилию.
Татаров. Ну, хорошо, это граф...
Чернов. Граф?
Татаров. Это неважно, граф или князь. Да и вообще, зачем фамилия?
Чернов. Центральный комитет приказывает вам,
Татаров. Граф Кутайсов.
Чернов. Отец или сын?
Татаров. Сын.
Чернов. Вы знакомы с сыном Кутайсова?
Татаров. Да.
Чернов. Где вы с ним познакомились?
Татаров. У его отца.
Чернов. В Иркутске или в Петербурге?
Татаров. В Петербурге.
Чернов. Вы бывали у Кутайсова в Петербурге?
Татаров. Да.
Чернов. Что же вы там делали?
Татаров. Я знаком с ним еще по Иркутску. В Иркутске мне не раз приходилось просить его за товарищей.
Чернов. Да, но зачем вы возобновили знакомство в Петербурге?
Татаров молчит.
Чернов. Вы бывали в доме Кутайсова и не сообщили об этом центральному комитету. Знаете, что партия одно время готовила на него покушение?
Татаров молчит. Чернов. Что же, сын Кутайсова сочувствует революции, если обещал вам помощь?
Татаров молчит.
Чернов. Я вам должен сказать, что вы нам солгали, не только скрывая свой адрес. Чарнолусский не давал вам ни копейки денег и не обещал. Фамилию Цитрона вы услышали в первый раз три дня тому назад от Минора, и в сношениях с ним поэтому быть не могли.
Татаров. Нет, Чарнолусский дал мне 15 тысяч. Чернов. Не спорьте. Доказано, что вы денег от него не получали.
Татаров. Это недоразумение. Я получил.
Чернов. Один из членов центрального комитета был у Чарнолусского в Петербурге. Вы денег не получали. После долгого колебания Татаров говорит"
- Я вам солгал. Деньги мне дал мой отец.
Чернов. Сколько?
Татаров. Десять тысяч.
Чернов. Разве ваш отец так богат?
Татаров, Он занял для меня под вексель,
Чернов. Вы можете это доказать?
Татаров. Я представлю удостоверение от моего отца.
Чернов. Почему вы прямо не сказали, что деньги вам дал отец? Мы бы удовлетворились этим ответом. Татаров. Мой отец не сочувствует революции. Я не хотел здесь упоминать его имя... Но в чем вы меня обвиняете?
Чернов. Вы знаете сами.
Татаров. Нет.
Тютчев . В предательстве. Чернов. Лучше, если вы сознаетесь. Вы избавите нас от необходимости уличить вас. Татаров молчит. Молчание длится минут десять.
Его прерывает Бах : Дегаеву были, поставлены условия. Хотите ли вы, чтобы и вам они были поставлены? Татаров не отвечает. Молчание длится еще минут десять. Все время Татаров сидит, положив руки на стол и на руки голову. Наконец он поднимает глаза:
Вы можете меня убить. Я не боюсь смерти. Вы можете меня заставить убить. Но я даю честное слово: я не виновен. Допрос продолжался еще несколько дней. Выяснилось еще, что Татаров:
1) узнал от А. В. Якимовой в Минске, что в Нижнем Новгороде летом 1905 г. предполагался съезд членов боевой организации;
2) знал петербургский адрес Волошенко-Ивановской перед арестом 17 марта;
3) имел свидание с Новомейским и бывшим членом "Народной воли" Фриденсоном перед арестом Новомейского;
4) виделся с Рутенбергом перед арестом его в Петербурге (июнь 1905 г.) и много других подробностей. Все эти подробности были лишены в наших глазах большого значения. Общий же характер допроса был тот же: Татаров был постоянно уличаем во лжи. Мы дважды пытались выяснить роль Татарова помимо заседаний комиссии. Частным образом в гостинице его посетили сначала Чернов, потом я.
Когда я вошел к Татарову, он сидел в кресле, закрыв лицо руками. Мы не поздоровались. Он не обернулся ко мне. Я сказал ему, что, зная его давно, не могу верить в его предательство; что я с радостью защищал бы его в комиссии; что характер его показаний лишает меня этой возможности; что я прошу его помочь мне,- объяснить в его поведении многое, нам непонятное. Я сказал ему также, что только полная его откровенность может дать этому делу благоприятный исход. Татаров молчал, не отрывая рук от лица. По сотрясению его плеч я видел, что он плачет. Наконец Татаров сказал:
- Когда я говорю с вами, я чувствую себя подлецом. Когда я один - совесть моя чиста. Больше я от него ничего не услышал.
Чернов имел не больше успеха. Вместо обещанного удостоверения Татаров представил в комиссию клочок бумаги, на котором было написано приблизительно следующее: "Мой милый сын, я дал тебе 10 тысяч рублей. Твой отец Ю. Татаров". Рассмотрев все имевшиеся в ее распоряжении материалы, комиссия единогласно постановила: Ввиду того, что: Татаров солгал товарищам по делу и о деле, имел личное знакомство с гр. Кутайсовым, не использовал его в целях революционных и даже не довел о нем до сведения центрального комитета, не мог выяснить источника своих значительных средств, устранить Татарова от всех партийных учреждений и комитетов, дело же расследованием продолжать.
Гоц одобрил это решение. Все члены комиссии единогласно вынесли уверенность, что Татаров состоял в сношениях с полицией. Характер же и цели этих сношений остались не вскрытыми. Поэтому пока не могло быть и речи о лишении Татарова жизни. Однако многие из товарищей остались недовольны нашим постановлением. Они находили, что Татаров уже уличен.
Татаров уехал в Россию. Из Берлина он прислал в комиссию несколько писем. В них он пытался объяснить свое поведение. "...Вы не можете представить,- писал он нам,- какой ужас - выставленные вами обвинения для человека, который, кроме трех лет тюремного заключения (в три приема) и первых 1 1/2 лет ссылки, остальные 8 1/2 лет своей революционной деятельности жил непрерывной мучительной революционной работой, которая была для него всем. Теперь я думал идти на работу на жизнь и на смерть, и вот удар. Я не могу ничего говорить, не могу писать. Я только перечислю вам голые факты и сухие доводы, и вы сами разберетесь в них по совести: Типографию в Иркутске поставил я, и вел ее с большим риском и успехом я один, до самого отъезда, т. е. до конца января 1905 г., значит, не было ничего против меня. В 17 марта я не мог быть повинен, так как никого не знал, кроме П.И., от которого ничего не знал. А о Новомейском не подозревал, что он занимается революционными делами (кроме "Возрождения"). Значит, и о марте нет речи. В Одессе я был в половине июня, за несколько дней до Потемкинских дней , бывал на собраниях центрального комитета. Видел и знал всех главных людей, знал роль каждого из них, хотя не знал дел и предприятий...
И с июня не было никого, о ком можно было бы подумать, что я повредил ему. Наконец, уже за границей Минор и Коварский видели близко, как все время и все заботы у меня были поглощены издательством. И так не работает и не ведет себя человек, вредящий партии.
...Все эти обстоятельства вы можете и обязаны проверить если не в моих, то в своих интересах. И то, что (в обвинениях) упоминается целый ряд обстоятельств, имен и предприятий, очень важных и мне совсем неизвестных. И то, что в каких-то донесениях фигурирует мое имя, а иногда это имя скромно умалчивается, приводит меня к одному убеждению,- что есть лицо, которому глубже и ближе знакомы партийные дела, чем знаю их я, и которое, чтобы отвлечь внимание от себя, попробовало бросить тень на другого (я, конечно, не подозреваю здесь центральный комитет).
Так как мое знакомство с Кутайсовым , при желании, может быть истолковано в разных смыслах, то прием был сделан удачный. У меня нет и не было на совести никакого греха против революции, против нашей партии. Как ни тяжело оправдываться, я говорю вам это прямо. В заключение скажу: я знаю, что это письмо, вероятно, не рассеет ваших подозрений. И у меня к вам одна просьба: не спешите позорить меня, дайте мне срок, чтобы время и обстоятельства могли вполне реабилитировать меня. И сами помогите мне в этом. А затем единственное, что мне остается после всего ужаса, пережитого в эти дни: я ухожу от революции и не буду никого видеть, никого знать, и все свои силы посвящу выполнению (террористического) акта, без чьей- нибудь помощи, без чьего-нибудь участия. Если вы отнесетесь ко мне с большим доверием после этого письма и согласитесь помочь мне реабилитировать себя, я все- таки уйду от людей и от работы, так как жить и работать мне теперь с людьми невозможно".
В другом письме Татаров писал: "...Не забудьте, что я много лет провел в среде своей семьи, бесконечно далекой и враждебной по своим убеждениям, с которой я все-таки вместе с тем тесно был связан любовью. В обстановке этой семьи приходилось не один год вести революционную работу - обманывать, скрывать, молчать,- убийственно молчать, чтобы ничего не знали. Из этой же обстановки пришлось бежать на нелегальное положение и, оставаясь нелегальным 1 1/2 года, поддерживать обман, что я не в революцию ушел, что я учусь за границей. Нужно было бы собрать сотни случаев, сотни мелочей из этой долгой двойственной жизни, чтобы понять, как молчание, скрытность, неправда крепко въелись в душу. Но нетрудно ведь понять, что все эти личные недостатки, наиболее мучительные для меня самого, были результатом того, что, как ни дороги лично мне были некоторые родные, но революция для меня была святыня, выше жизни, выше всего, и ради нее для меня не существовала личность, ради нее неважны были никакие личные недостатки. Долгая, мучительная конспиративная работа не могла способствовать ослаблению указанных свойств. Много тяжелых личных ударов только усиливали их. Недоверие к людям, замкнутость свыше всякой меры - все это сделалось основными моими свойствами. Я часто говорил неправду (не в революционных делах): но мне всегда казалось, что не вредную неправду - неправду, вытекавшую из привычки к конспирации и страшной, прямо болезненной замкнутости.
Как только вопрос казался мне вторжением, хотя бы самым слабым, или в революционные дела, или в мою личную жизнь, или даже просто казался лишним,- я всегда готов был или совсем не ответить, или ответить уклончиво, или сказать неправду. Но я не знаю случая, чтобы моя неправда носила дрянной характер когда-нибудь или чтобы она допускалась в революционной работе. Пусть все-таки это было нехорошо, но страдал-то я один от этого. Благодаря этим качествам, я не знал того, что называется личной жизнью, лично был всегда только в муку себе и другим. Кроме революции ничто никогда не озаряло мою жизнь. Но если я говорил неправду, то я не умел ходить кривыми путями, не умел лицемерить...
Я не боялся знакомства с Кутайсовым, как не боялся бы знакомства со всяким высокопоставленным лицом. Я настолько жил всегда мыслью о революции, что никакое знакомство меня не могло унизить. Заводя такое знакомство, я всегда думал бы, что я не должен избегать того, что может быть как-нибудь выгодно для дела. Я не искал таких знакомств, но я и не бежал от них. Одна мысль - польза революционного дела - сознательно или бессознательно руководила мной во всем. Личного интереса я не знал. И я не унижался. Напротив, я говорил все прямо, а передо мной оправдывались (Кутайсов)... Когда я брался за дело, я отдавался ему весь, и я неоднократно убедился, что, начав дело, всегда можно его довершить. Так я взялся в Иркутске в один месяц поставить типографию, хотя не имел еще ни людей, ни прочего. Так я всегда работал. А в делах издательства я в 1 1/2 месяца положил очень большое начало, и у меня был обеспечен не только "первый", но и "второй" шаг. Я поражаюсь, что вам не ясно это.
Еще прошу вас, не удивляйтесь, что многое я не могу вспомнить точно. У меня всегда была очень скверная память, кроме профессиональной, т. е. кроме памяти на те революционные дела, которые нужно было запомнить. И я часто был очень рассеян". Цитированные выше письма эти не объяснили нам ничего. Подлинный протокол допроса гласил:
"Материальным основанием предприятия Татарова является сумма в 10 тысяч рублей, занятая отцом его, затем обещание денежной поддержки со стороны Чарнолусского в размерах, которые в разговорах не определялись. Вообще формальная сторона положения Чарнолусского в издательстве не определялась; из разговоров было ясно лишь, что он отдает себя всецело в распоряжение издательства и выражал готовность взять на себя соредакторство. В последнее время Татаров списался через Б. с одним одесским капиталистом, который предлагал капитал для подобного же издательства, причем пока еще ответа от него не имеется. Имеются в виду также переговоры с одним денежным лицом в Киеве. Объявление об издательстве было послано в "Сын Отечества", а Чарнолусскому одновременно было послано уведомление с предложением, если он найдет нужным, вычеркнуть свой адрес. Относительно окончательной редакции объявления об издательстве Татаров ни с кем не советовался.
Татаров рассматривал издательство как дело партийное только по своему содержанию, но чисто личное с организационной стороны. Что касается связей, которые могут помочь в деле проведения издания сквозь цензуру, то здесь Татаров рассчитывал на посредничество Чарнолусского и сына Кутайсова, с которым он виделся в Петербурге (но никаких определенных разговоров с ним по этому поводу не имел). С отцом Кутайсова он был знаком в Иркутске, бывая в его доме. Отец познакомил его с сыном в Петербурге.
Официально кооптирован был Татаров в центральный комитет в Одессе на собрании, состоявшем из П. Я., Л. и П. , причем от первого он получил все пароли и шифры. Что касается утверждения Чарнолусского, что никакого участия в деле ни он, ни кто-либо через его посредство, хотя бы в форме обещания, не принимает и что его прикосновенность ограничивается лишь готовностью помочь некоторыми техническими указаниями, разного рода советами и т. п., то Татаров утверждает, что из всех переговоров и писем, напротив того, вынес убеждение, что Чарнолусский отдает себя всецело в распоряжение издательства. На основании этого убеждения Татаров считал возможным обратиться к нему с просьбой об участии в покрытии сделанных расходов, если бы в этом представилась надобность. Подробностей разговоров с А. теперь Татаров не помнит. Помнит лишь, что А. сообщил ему об имеющейся в СПБ комитете возможности сделать покушение на Трепова. В это время, как и вообще, Татаров держался того взгляда, что местный комитет не должен заниматься такими предприятиями, как против Трепова или даже против царя, так как это дело боевой организации, и поэтому ни за себя, ни за центральный комитет Татаров не мог дать на это согласие. Татаров знает теперь, что Новомейский жил в одних меблированных комнатах с Ивановской (этот факт передавал, между прочим, Ш. в Женеве на квартире у Гоца), но в каких именно - не знает. Не может определить ("не помнит ни времени, когда узнал об этом, ни лиц, от которых это узнал, ни города, где узнал. Думает, что в Петербурге, Ялте или Киеве"). В Петербурге Татаров был одновременно с сестрой Новомейского летом, приблизительно в июне. С Новомейским никаких переговоров и деловых революционных сношений в это время не имел, но в присутствии Татарова такие переговоры с Новомейским вел Ф.:
1) об отношениях между организацией "Возрождение" и п. с.-р.,
2) Новомейский говорил, что имеет возможность доставать динамит из Сибири. Специально в этот разговор Татаров не вслушивался и деталей его не знает. К чему положительному привели эти разговоры, и привели ли, Татаров не знает. Говорил ли при этом Новомейский, что живет в одних меблированных комнатах с Ивановской, Татаров не помнит, но, кажется, нет. У Татарова осталось такое впечатление, что Ф. не знал, где живет Ивановская. К Новомейскому Ф., кажется, ездил. На другой или на третий день после отъезда П. Татаров приехал с Т. в Петербург и в это время, кажется, узнал, что Ивановская была на квартире П. Ив. Татаров знает от "хромого", что он привез из Сибири в Нижний Новгород динамит, кажется, из склада И. Кажется, "хромой" говорил, что привез печать для свидетельства на получение динамита (это было приблизительно в конце июня). В Киеве в самое первое время после арестов 17 марта Татаров слышал передаваемое в виде слуха предположение, что, кажется, кто-то из арестованных выдает. Слышал это он в сферах революционных, от кого именно - не помнит. Якимова говорила, что собирается скоро быть в Нижнем и повидается там с Валентином и еще с кем-то, кажется с Павлом Ивановичем, и что там будет разговор о возможности созыва общепартийного съезда (это было в июле) после объезда ею некоторых мест (каких именно, Татаров, кроме Кавказа и Одессы, не знает). Знает еще, что раньше Якимова была в Киеве, в Нижнем, в Москве. Разговор этот происходил в Петербурге. Якимова говорила, что порознь у каждого из имеющих быть там есть связи и силы, не использованные и другим неизвестные. Поэтому решено съехаться в Нижнем, выработать план и - между прочим - обсудить вопрос о большом съезде (представителей разных мест). Об Унтербергере она ничего в это время не говорила. Татаров жил в Женеве в Hotel des Voyageurs или в Hotel des Etrangers, близко от вокзала, но не около самого вокзала. Этот отель на улице, идущей направо от rue Mont Blanc, не доходя до почты, кажется в * 28. Он в этом отеле не записывался. Отель стоит на левой стороне улицы. В этом отеле он прожил всего несколько дней, дня два-три. После вопроса относительно причины, почему эти данные противоречат совершенно указаниям, данным Татаровым в разное время разным трем лицам о своем адресе, Татаров разъяснил, что вследствие причины чисто интимного характера он, с самого начала живя только в Hotel d'Angleterre, чтобы отделаться от вопросов, на которые было неудобно отвечать, дал неверный адрес".
Много позже, уже в России, обнаружились следующие факты:
По манифесту 17 октября был освобожден из тюрьмы Рутенберг . Он рассказал, что незадолго до своего ареста имел свидание в Петербурге с Татаровым. Прощаясь, Татаров предложил ему увидеться снова через два дня и сам назначил квартиру для этой встречи. Эти два дня Рутенберг прожил в Финляндии и не имел сношений с товарищами. Утром в назначенный день он прибыл с поездом в Петербург и с вокзала зашел к своему знакомому, А.Ф. Сулиме-Самуйло . У Сулимы-Самуйло хранился его чемодан. Он переоделся, взял ключ от своего чемодана и в условленный час был на месте свидания, В указанной Татаровым квартире он никого не застал. Он опять вышел на улицу и заметил, что дом окружен полицией. Через два часа он был арестован на Марсовом поле. Ключ был найден при нем. Сулима-Самуйло не без основания полагал, что, в случае предварительного за ним наблюдения, полиция необходимо проследила бы и чемодан. Она едва ли пренебрегла бы такой находкой. Можно было подумать, что агенты получили точное указание, где и когда можно арестовать Рутенберга.
По сличении рассказа Рутенберга с рассказом о том же Татарова, оказалось, что Татаров сказал неправду.
Значительнее были сообщения Новомейского . Новомейский членом партии социалистов-революционеров не состоял, никакого участия в делах боевой организации не принимал и услуг ей не оказывал. Мне он был совсем неизвестен. Арестован он был по делу 17 марта и содержался в Петропавловской крепости. Освобожденный по манифесту 17 октября , он заявил, что предъявленные ему в жандармском управлении допросные пункты навели его на некоторые подозрения. Его связь с боевой организацией выразилась единственно в следующем: на свидании в ресторане Палкина он, через Татарова и Фриденсона, предложил доставить из Сибири несколько пудов динамита . При разговоре этом больше никто не присутствовал. Динамит Новомейский доставить не успел, разговор же стал известен жандармскому управлению в мельчайших подробностях. Даже порядок предъявленных обвинений соответствовал порядку разговора. Не оставалось сомнения, что полиция была осведомлена через секретного сотрудника. Обстановка свидания исключала всякую мысль о подслушивании. Фриденсон был человек слишком известный, старый и безупречный работник. Подозрение, естественно, падало на Татарова. Более того, Новомейский заявил, что в крепости его предъявляли какому-то человеку для опознания. Лица этого человека он разглядеть не успел. Фигурой же он напомнил ему Татарова; к этому Новомейский прибавил, что, если бы он не знал, что Татаров был в эти дни за границей, он бы ручался, что это был он. Мы навели справки. В эти дни Татаров был еще в Петербурге. Фриденсон решил выяснить это дело. Подозрение не могло коснуться его, но он все-таки считал свою честь затронутой. Вместе со старым своим товарищем, покойным Крилем, он поехал в Киев, где тогда жил Татаров. Фриденсон сказал Татарову, что разговор с Новомейским у Палкина известен полиции, что Новомейский в этом, очевидно, виноват быть не может и что, следовательно, вина падает либо на него, Фриденсона, либо на Татарова.
Он просил Татарова объясниться. Татаров в ответ сообщил следующее. Защищая свою честь от позорящих ее обвинений, он обратился к первоисточнику. Его сестра замужем за полицейским приставом Семеновым . Семенов, по родству, обещал ему навести справку в департаменте полиции о секретных сотрудниках в партии социалистов-революционеров. Сделал он это через некоего Ратаева, бывшего помощника Рачковского. Оказалось, что полиция действительно имеет агента в центральных учреждениях партии. Агент этот Азеф . На него и ложится ответственность за все аресты, в том числе и арест семнадцатого марта. Татаров же оклеветан. В объяснении этом многое казалось невероятным. Было невероятно, что полицейский пристав мог быть посвящен в тайны департамента полиции. Было невероятно, что член центрального комитета, имея связи в полиции, не только не использовал их в целях партийных, но даже не сообщил о них никому.
Наконец, было невероятно, что товарищ может строить свою защиту на обвинении в предательстве одного из видных вождей партии. Все эти обстоятельства убедили Чернова, Тютчева и меня, что Татаров предатель.
Четвертый член комиссии, т. Бах , был за границей. Я предложил центральному комитету взять на себя организацию убийства Татарова. Я сделал это по двум причинам. Я считал, во-первых, что Татаров принес вред боевой организации и в ее лице всему террористическому движению в России. Он указал полиции Новомейского и через Новомейского и Ивановскую (Ивановская жила в одних меблированных комнатах с Новомейским. См. обвинительный акт по делу 17 марта). Указание это привело к арестам 17 марта. Ему было известно о съезде боевой организации в Нижнем Новгороде летом 1905 г. После этого съезда началось наблюдение за Азефом, Якимовой и за мной. Наблюдение это привело к ликвидации дела барона Унтербергера и приостановке покушения на Трепова. Таким образом, Татаров фактически прекратил террор с весны 1905 г. по октябрьский манифест. Я считал, во- вторых, что распространение позорящих слухов о главе боевой организации Азефе задевает честь партии, в особенности честь каждого из членов боевой организации. Защита этой чести являлась моим партийным долгом. Центральный комитет согласился на мое предложение и ассигновал необходимые средства.