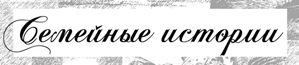 |
САРНОВ Б. РАССКАЗ ВТОРОЙ: "ТРУДНАЯ ВЕСНА"
Где вы, где вы? В какие походы
Вы ушли из моих городов?..
Комиссары двадцатого года,
Я вас помню с тридцатых годов.
Н. Коржавин Когда началась война и мы переехали жить в этот маленький уральский город, я сказал всем в школе, что меня зовут Феликс. Дома меня по-прежнему звали Борей. Мама не знала, что я решил стать Феликсом. Она узнала это только в конце года, когда мне нужно было получать свидетельство об окончании семилетки и пришлось доказывать, что Феликс Сазонов и Борис Сазонов - это одно и то же.
- Ну для чего тебе это понадобилось - устало сказала она. - Большой парень, и вдруг? Такая внезапная вспышка глупости. Наверное, это и в самом деле была глупость. Но не внезапная. 1 Мне никогда не нравилось мое имя. И вовсе не потому, что в школе чуть ли не с первого класса меня дразнили "Борис, председатель дохлых крыс!" или "Борис Годунов, объелся блинов!". Оно не нравилось мне совсем по другой причине. Я хотел, чтобы меня звали как-нибудь пореволюционнее. Ну, хоть как Кимку Ершова - Ким. Ким - это сокращенно значит "Коммунистический Интернационал Молодежи". Или как Владика Стучевского - Владлен: "Владимир Ленин". У нас в школе, да и во дворе, даже у девчонок были такие имена. Вот, например, Ленка Морозова. Ее полностью зовут не Елена, а Ленина, в честь Ленина. Энку Левитину зовут Энергия. А имя Рэмки Данилиной - Рэма - означает: "Революция электрификация мира".
Конечно, были у нас и другие ребята, с обыкновенными именами. Но ни одно имя не казалось мне таким дореволюционным, старорежимным, как мое. Особенно обидно стало мне после того, как я побывал в гостях у Фельки Кононенко. Фелька учился не в нашем классе, а в параллельном, шестом "Б". Домой он меня к себе позвал играть в шахматы: я играл лучше всех в нашем классе, а Фелька был чемпионом в своем.
- Пошли прямо сейчас - предложил он мне как-то после уроков. - А то можно к тебе. Только мне тогда надо будет домой позвонить, чтоб не ждали. Мне никому не нужно было звонить, дома меня никто не ждал, и мы решили идти к нему. Фелька жил в большом сером доме в Гнездниковском переулке . Этот дом знала вся Москва. Тогда в Москве еще не было высотных зданий, и этот сумрачный десятиэтажный дом считался небоскребом. Старые москвичи называли его "Дом Нирензее" , по имени его давнишнего владельца. Мальчишки говорили о нем "Дом с крышей", потому что у этого дома была замечательная, огороженная специальной оградой и выложенная каменными плитками крыша, на которую все мы лазили играть в волейбол и смотреть на простершуюся внизу Москву. С тех пор мне не раз приходилось бывать в этом доме. Сейчас в нем находится учреждение, в которое я часто хожу по делам. И нынешние москвичи чаще всего называют дом именем этого учреждения. Но я и теперь, когда думаю об этом старом московском доме, называю его про себя "Дом Фельки Кононенко". С трудом открыв тяжелую, тугую дверь, мы вошли в прохладный вестибюль и в лифте поднялись на девятый этаж. Это был совсем не такой лифт, как в нашем доме. Для того чтобы подняться в нем, нужно было не нажимать кнопку, а быстро крутануть такое блестящее медное колесо с ручкой, похожее на штурвал корабля. На девятом этаже мы долго шли по пустынному широкому коридору. Наконец Фелька остановился перед дверью, встал на цыпочки и, дотянувшись, нажал кнопку звонка. Он нажал кнопку и не отпускал ее долго-долго.
- Брось, соседи заругают, - сказал я.
- А у нас нет никаких соседей, - сказал Фелька. И тут как раз дверь открылась. Ее открыла широколицая высокая девушка. Она и в самом деле не стала ругать нас. Только дернула Фельку за чуб и сказала:
- Вытирай ноги.
- Это Нина, моя сестра, - сказал мне Фелька. Мы быстро вытерли ноги и вошли в большую светлую комнату с одним, во всю стену, огромным окном. Нина сказала:
- Мальчики, вы, наверное, голодные? Будем обедать или подождем папу?
- Нет, - сказал Фелька, - мы будем играть в шахматы.
- Играйте, - сказала Нина. - Только, пожалуйста, без фука.
- С фуком - это в шашки, - сказал я. Фелька и Нина засмеялись.
- Это она нарочно, - объяснил Фелька. - Это давно, когда мы еще маленькие были, мы с ней любили в шашки играть. И всегда шумели очень, орали, ссорились: "Чур, с фуком! Чур, без фука!" Вот однажды отец нам сказал: "Больше без моего разрешения вы шашки в руки не возьмете". Мы - просить: "Пап, разреши, разреши!" А он говорит: "Ладно, играйте, только, пожалуйста, без фука". Ну вот, с тех пор у нас все так говорят дома: "Без фука". Значит, не орать, без крика то есть. Первую партию мы сыграли вничью. Вторую я твердо решил выиграть. Фелька сидел прямо на столе, кусал ноготь и думал. Он думал уже довольно долго. Мне стало скучно ждать, пока он сделает ход, и я стал глядеть на стены. Прямо передо мной, над столом, висела большая фотография. В огромной пустой комнате, вернее, даже не в комнате, а в каком-то зале, где много-много окон, стоят рядом два человека. Один - в шинели внакидку, в фуражке, с худым изможденным лицом и острой бородкой. Я сразу узнал его: Дзержинский. Другой тоже в фуражке и в короткой кожаной куртке, совсем молодой, с таким же, как у Фельки, широким, курносым лицом.
- Это Дзержинский? спросил я. - А с ним кто?
- С ним - переспросил Фелька, не отрываясь от доски. (Через несколько ходов его ждал верный мат.) - С ним? Это папа!
- Твой? У меня сразу пересохло в горле.
- Ну да, - Фелька наконец сделал ход. - Он с ним работал. Поэтому меня и назвали Феликсом. Феликс Эдмундович умер в двадцать шестом году. Как раз когда я родился. Ходи, что же ты? Я сделал ход и сразу зевнул ладью. Наверняка выигранная партия теперь была безнадежна. Но я уже не думал о шахматах. Я думал о другом. Я родился не в двадцать шестом, а в двадцать седьмом году. Но это неважно. Мне тоже могли дать это ослепительное и грозное, как само слово "революция", имя. Но мой отец никогда не работал с Дзержинским. Он работал?
Вот так всегда! Всякий раз, когда мне приходилось отвечать на вопрос, где работает мой отец, я краснел, заикался и не знал, что ответить. Все наши ребята хвастались отцами. С нарочитой небрежностью произносили они звучные, иногда короткие и простые, а чаще длинные и малопонятные слова:
- Мой батя работает на "Шарикоподшипнике".
- А мой отец в Цэсэу.
- А мой в Главпуре РККА! Не каждый из нас знал, что Главпур РККА - это значит "Главное политическое управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии". Да и те, кто знал, наверное, не очень ясно представляли себе, что это такое - "Главное политическое управление". Но все мы понимали, что люди, работающие в учреждении с таким названием, делают что-то очень важное. Не просто важное, а важное для революции. Тогда все измерялось этой мерой. Если человеку хотели сказать, что его поступок не имеет решительно никакого значения, ему говорили: "Революция от этого не пострадает". А разве пострадала бы революция, если бы ушел с работы мой папа? Он был преподавателем консерватории. Это слово - "консерватория" - казалось мне таким же противным и старорежимным, как мое имя. У нас дома на стене тоже висели фотографии. Но это были совсем другие фотографии, не похожие на ту, что я видел у Фельки. На одной из них отец был снят в очень твердом, подпирающем шею крахмальном воротничке и в галстуке бабочкой. На другой - в высокой фуражке с кокардой и с блестящим козырьком. В таких фуражках до революции ходили студенты консерватории. Я стыдился профессии отца. Мне казалось унизительным и глупым, что большой, взрослый мужчина, вместо того чтобы быть военным, моряком или летчиком, занимается таким не настоящим, не мужским делом.
Вот почему, когда ребята спрашивали меня про отца, я не знал, что ответить. Мне казалось, что если я скажу им правду, они подумают, что папа вроде нашего учителя пения Клавдия Ивановича, которого мы изводили злорадной дразнилкой:
До ре ми фа соль ля си,
Клавдий Иваныч, не форси!
Если будешь ты форсить,
Мы не станем голосить!.. Хотя на самом деле отец ничуть не был похож на худенького, красноносого Клавдия Ивановича. 2 В тот вечер я долго смотрел на отца. Смотрел, как бегает по нотным линейкам его остро отточенный карандаш. Вот он задумался на секунду, быстро-быстро нарисовал четыре точки, приделал к ним хвостики и соединил их общей черточкой. Потом посидел, подумал, взял ластик и стер. Опять быстро- быстро забегал его карандаш.
- Пап? Ведь ты был на фронте?
- М-м?
- Ты ведь был на фронте, пап? У тебя, наверное, есть где-нибудь старые фронтовые фотографии?
- Фотографии? Должны быть. Посмотри в столе. Я залез в ящик отцовского письменного стола и достал толстую пачку бумаг, пожелтевших, стершихся на сгибе. "Императорское Русское Музыкальное Общество, - прочел я на одной. - Дано сие мещанину...?
- Пап, ты разве мещанин? Отец, поглощенный своим дурацким занятием, не отозвался. Я стал рыться в столе дальше и наконец наткнулся на фотографии. Они были совсем не интересные, не фронтовые. На табуретке сидит здоровенный толстомордый парень в начищенных до блеска сапогах. Рядом с ним стоит такая же здоровая, наверное, очень краснощекая девушка. На обороте крупными каракулями написано: "На память Николаю Петровичу от Афанасия и Веры".
- Пап, это кто? Это же не на фронте, а ты говорил, что здесь фронтовые? Отец оторвался от нотного листка, взглянул на фотографию и улыбнулся:
- Это мой денщик со своей невестой.
- Денщик? я был поражен. - У тебя был денщик? Но отец уже снова чертил карандашом свои закорючки. Я бы, конечно, так скоро не оставил его в покое, но тут мне на глаза попалась еще одна фотография. Да, уж тут не могло быть никаких сомнений - это была настоящая, фронтовая! У сломанного дощатого забора стоят трое военных. Один из них - отец. Все они в фуражках - круглые маленькие кокарды, на плечах - погоны. С ужасом, не веря, что это может оказаться правдой, я спросил:
- Па, ты был белый?
- Что?! - отец поднял голову от нотного листка. - Что за чушь ты городишь?
- А почему тогда погоны?
- Ну, ей-богу! Ты ведь не маленький. Должен знать. Это было еще в империалистическую. Я служил в старой армии. Тогда все носили погоны.
- Но ты был офицер? У тебя был денщик, значит, ты был офицер!
- У меня была музыкантская команда, я был капельмейстером. Если тебе так нравится, можешь считать, что я был офицером! Нет, мне это совсем не нравилось! Только этого мне не хватало - чтобы мой отец оказался золотопогонником, офицером царской армии! "Что за черт! - думал я чуть не со слезами. - У всех отцы как отцы, а тут?"
- Пап, а потом, когда революция? Ты тоже был капельмейстером? Отец рассердился:
- Ну сколько можно, Боря! Взял фотографии, играй, пожалуйста, только, ради бога, не гуди над ухом! "Играйте, только, пожалуйста, без фука!" - почему-то вспомнилось мне. У меня вдруг защемило сердце. Бывают же такие счастливые люди, у которых фотографии вождей висят, как у других фотографии родственников и знакомых, у которых отцы, приходя домой, снимают скрипящие, пахнущие кожей ремни и играют с сыновьями в шахматы, и разговаривают с ними как со взрослыми, и говорят свои, особенные, не похожие на другие слова: "Играйте, только, пожалуйста, без фука" 3 "Скорей бы вырасти! - думал я. - Уж я не буду таким чудаком, как отец. Во- первых, я обязательно отпущу усы". Мы с ребятами часто говорили о том, какие усы мы будем носить, когда вырастем: короткие, как у Папанина, или пышные, с закрученными, торчащими вверх концами, как у Чапаева. О том, чтобы обходиться вовсе без усов, не могло быть и речи. Это было бы просто глупо. Отец усов не носил. Это тоже казалось мне непонятным, ничем не объяснимым чудачеством. Однажды, глядя, как отец бреется перед зеркалом, я попросил:
- Пап, не сбривай усы. Пусть будут!
- Да? И какого цвета будут эти усы - невозмутимо отозвался он.
- Черные, - сказал я, не соображая, куда он клонит.
- Черные - это бы еще куда ни шло? У меня они были б рыжие! Я понимал, конечно, что отец шутит. Но даже шуточный этот ответ показывал, что в глубине души он и сам знает, насколько лучше было бы ему с усами. Да, усы для человека - не последнее дело. Но если говорить серьезно, не только возможность отпустить усы заставляла меня хотеть как можно скорее стать взрослым. Как и все наши ребята, я очень боялся, что не успею вырасти до начала войны. Я всегда завидовал тем, кто родился раньше меня, кому посчастливилось захватить хоть краешком детства Гражданскую войну. Я изводил расспросами всех взрослых, я добивался от них ясного и прямого ответа: обязательно будет война или может случиться, что я проживу всю свою жизнь, а войны так и не будет. Это было бы просто несправедливо. Хватит с нас того, что мы по малолетству не были в Испании. Я не сомневался, что будь я и все наши ребята чуть постарше, генералу Франко вряд ли удалось бы задушить Испанскую Республику. О том, что война началась, мы с мамой узнали не сразу. В то лето мы с ней жили в маленькой деревушке на берегу Волги, в пяти часах езды от Москвы. Мама работала врачом в доме отдыха имени Коминтерна, находящемся поблизости, а я целыми днями торчал на реке, купался до судорог, жарился на солнце. Каждое воскресенье из Москвы приезжал отец. Он привозил мне то пластинки для "Фотокора", то камеру для волейбольного мяча, и всегда - напоминание о том, что где-то неподалеку продолжается обычная московская жизнь, со звонками трамваев и гудками автомобилей, с пыльными московскими дворами, где ребята играют в лапту, с радужными лужицами бензина в мягком, плавящемся от зноя асфальте. На мои расспросы о Москве отец неизменно отвечал, что в Москве плохо: пыльно и душно. Потом он ложился на раскладушку и через несколько минут засыпал, накрыв голову газетой. Я ждал, что так будет и в это воскресенье. День начался как обычно. Время тянулось медленно-медленно. Казалось, утро никогда не кончится. Я успел уже четыре раза сбегать на Волгу искупаться и то и дело забегал в дом глянуть на ходики, не пора ли идти встречать отца. Наконец маленькая стрелка подошла к двенадцати. Из "Коминтерна" пришла мама, и мы пошли с ней на станцию. Я первый увидел отца и сразу понял, что в Москве что-то случилось. У него было точь-в-точь такое лицо, как в тот день, когда умер дядя Костя. У дяди Кости было больное сердце. Он купался в ванной, и с ним случился приступ. Когда папа узнал, что дядя Костя внезапно умер, он ходил по комнате вот с таким же растерянным лицом и говорил: "Как глупо? Тьфу ты, черт! Как глупо!" Увидев меня и маму, отец соскочил на платформу, не дожидаясь, пока поезд замедлит ход. Я был уверен, что папа подойдет ко мне: я стоял ближе. Но он, даже не глядя на меня, подошел к маме, взял ее за руку и, растерянно улыбнувшись, сказал:
- Я ничего не знал утром. Собрался и выехал. Только в поезде мне сказали.
- Что - не знал - испуганно спросила мама. - Коля, что случилось?!
Он посмотрел на маму так, словно был в чем-то виноват перед ней, и сказал:
- Война! Услыхав это слово, я мгновенно забыл обо всем, что волновало меня секунду назад. Вот оно! Наконец-то! Я не понимал, почему плачет мама, почему не радуется отец. Я радовался. И вместе с тем - странное дело! - с той минуты, как я узнал про войну, где-то внутри меня, должно быть, в самом сердце, поселилось какое-то непонятное тошнотворное чувство тревоги. Радость моя была искренней, неподдельной. Случилось наконец самое главное, то, к чему мы все время готовились, чего так долго ждали! Я вспомнил, как перед отъездом поспорил с Владькой Стучевским на три новенькие кассеты для "Фотокора", начнется в этом году война или нет. Владька говорил, что обязательно начнется. Я и сам так думал, но поспорил наоборот. Я всегда, если очень хотел чего- нибудь, спорил наоборот: не сбудется по-моему, так хоть спор выиграю, все-таки утешение. "Здорово! - думал я. - Кассеты проспорил, и черт с ними! Зато война!" А противная тошнота в сердце почему-то не проходила. 4 В тот день, когда началась война, вся жизнь словно переломилась пополам. Теперь дни катились друг за другом как в кино, и каждый день приносил что- нибудь новое, и эта новая, стремительно меняющаяся жизнь была совсем не похожа на ту, прежнюю, медленную, с песчаными волжскими плесами, пластинками для "Фотокора", волейболом и лаптой. Все это осталось где-то далеко-далеко, как будто это было не вчера, а много лет назад. Отец в тот же день уехал обратно в Москву, а мы с мамой остались. Я теперь целые дни проводил в опустевшем доме отдыха. Радиоузел почему-то не работал, и там ходили самые невероятные слухи - одни говорили, что наши взяли Кенигсберг и Варшаву, другие утверждали, что мы вот-вот подойдем к Берлину. Я жил в те дни только этими слухами. Я не сомневался в правдивости каждого из них. Меня только удивляло, что никто не говорит о самом главном: ведь в Германии, наверно, уже произошла революция. А если это так, почему тогда Красная Армия продолжает наступать на Берлин? То, что в Германии революция уже произошла или произойдет со дня на день, не вызывало у меня никаких сомнений. Раньше, когда война еще не началась, мы с ребятами у нас во дворе часто говорили о том, как все будет, когда она начнется. В одном из этих разговоров Женька Иваницкий, самый умный и начитанный из нас, как дважды два доказал нам, что как только какая-нибудь капиталистическая страна посмеет напасть на СССР, в ней сразу вспыхнет революция, потому что народ этой страны не допустит, чтобы его правительство воевало с международным отечеством трудящихся. И тогда, безусловно, произойдет мировая революция. Я был уверен, что именно так все и будет. Эта моя уверенность не поколебалась даже тогда, когда мы с мамой вернулись в Москву и узнали, что немцы захватили Литву, Латвию, Эстонию, почти всю Западную Украину и Западную Белоруссию.
- До старой границы решено допустить, не иначе. Такой план. А там остановим, - сказал наш сосед дядя Федя.
- Не похоже - задумчиво ответил отец. - На план что-то не похоже. Они сидели над моей школьной "Политической картой СССР". Дядя Федя сказал:
- Не для того рабочий класс брал в свои руки власть!..
- Ах, оставьте, пожалуйста! При чем тут рабочий класс! - раздраженно заговорил другой наш сосед, Осип Маркович. Про него отец, смеясь, рассказывал нам, что во время первой учебной тревоги (мы с мамой тогда еще были на Волге) он вбежал к нам в комнату в одном белье и сдавленным шепотом, точно боясь, что его могут подслушать, сказал: "Началось!"
- При чем тут рабочий класс - разозлился Осип Маркович. - Вы знаете, сколько у них дивизий, какая техника? Дядя Федя посмотрел на Осипа Марковича и жестко сказал:
- При том рабочий класс, что техника без людей мертва! Осип Маркович зло усмехнулся и едва заметным движением головы показал отцу на дядю Федю, словно приглашая его вместе с ним посмеяться над упрямой дяди Фединой глупостью. Как я ненавидел его в эту минуту! И как обидно мне было, что он считает отца своим единомышленником! Пусть дядя Федя не знает, сколько у немцев дивизий, но ведь он сказал правду! Немецкие рабочие не станут стрелять в наших! Они обязательно сделают у себя революцию. Не сразу, так через месяц. Я ждал, что вот отец встанет и скажет все это Осипу Марковичу, и тогда последнее слово останется за дядей Федей, за нами. Но отец остался сидеть на месте, как будто ничего не случилось. Он только еще раз посмотрел задумчиво на карту и, словно отвечая каким-то своим мыслям, невпопад пробормотал непонятные, но почему-то запомнившиеся мне слова:
- Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. 5 Отец записался в ополчение и через три дня уехал. Когда он перед самым отъездом забежал домой проститься с нами, лицо у него было уже не растерянное и не грустное, но и не веселое. Я был рад, что отец уезжает на фронт. И все- таки это было не вполне то, чего бы мне хотелось. Во-первых, отец был не кадровым, а ополченцем. Это, конечно, был минус. Правда, с другой стороны, это значило, что он ушел на фронт добровольно. Но все-таки лучше было бы, если б он был не ополченцем, а кадровым командиром. Тогда у него было бы, самое меньшее, три кубика в петличке, а может быть, даже и шпала. Ну а кроме того, по моим понятиям, отец, уезжая на фронт, должен был поговорить со мной как мужчина с мужчиной. Он должен был сказать мне, чтобы я заботился о маме и бабушке. Так всегда говорят сыновьям, уходя на войну, я знаю. Я представил себе, как отец Фельки Кононенко прощался со своим сыном. Фелькиного отца я ни разу в жизни не видел, только вот тогда, на фотографии. Но я представил себе его отъезд так, как будто все это происходило на моих глазах. Вот он сидит дома за столом, пьет чай, шутит, смеется. Он совсем молодой, почти такой же, как на фотографии, только на висках у него виднеется седина и у глаз собираются веселые морщинки. Вот он взглядывает на часы, и лицо его мгновенно становится серьезным. "Девятнадцать ноль-ноль. Мне пора", - говорит он и встает. Фелька и Нина встают тоже. Они не спорят, не просят его подождать еще хоть минуточку. Они знают, что нет ничего на свете точнее и непреложнее военного приказа. "Ну, сын, - говорит отец Фельке и кладет руку ему на плечо, - теперь ты главный мужчина в доме. Помни об этом". Он не целует Фельку. Мужчины обходятся без поцелуев. Как равному он жмет ему на прощанье руку. Мой отец ничего этого не сделал. Он долго о чем-то вполголоса разговаривал с мамой. Потом они несколько раз быстро-быстро поцеловались. Потом он нагнулся, поцеловал меня в глаз, сказал:
- Ну, будь умницей. Как будто мне пять лет, а не четырнадцать! И ушел.
Да, с отцом мне не повезло. Зато с мамой все вышло отлично. Маму вызвали в военкомат и аттестовали. Ей присвоили звание "военврач второго ранга" (это две шпалы, как у майора). И дали срочное назначение в Житомирский эвакогоспиталь. Когда мама сказала, что ей разрешили взять с собой семью, радости моей не было границ. Еще бы! Значит, я поеду с ней в Житомир! Житомир - это где-то на Украине. Это почти самый фронт. Я сам слышал по радио сводку, в которой говорилось: "Идут бои на Житомирском направлении". Бабушка ехать отказывалась. Она говорила маме, что не дело это - все бросить и ехать бог знает куда, что она хочет умереть в своем родном доме и еще что-то в этом же роде. Я не стал слушать всю эту ерунду. Я побежал к ребятам. Меня распирало. Я должен был с кем-то поделиться неожиданно свалившейся на меня радостью. Во дворе было пустынно. Только у самой подворотни со скучающим видом прогуливался Женька Иваницкий. Женька - это был именно тот человек, уважение которого мне хотелось бы завоевать в первую очередь. Я подошел к нему и сказал:
- Уезжаем? Женька равнодушно спросил:
- Эвакуируетесь? Небрежно, как будто в этом не было ничего особенного, я сказал:
- Мать мобилизовали. На фронт едет. А я с ней, - и, не удержавшись, добавил:
- Ей майора дали?
- Ну да, - сказал Женька, - маме дали майора, папе полковника, а тебе маршальскую звезду.
- Дурак! - обиделся я. - Получено специальное разрешение! Военный комиссар так матери и сказал: ?Если не на кого оставить, берите семью с собой?. Едем в Житомир. В четыреста тридцать первый госпиталь. Слыхал по радио? Бои на Житомирском направлении.
- Ну, госпиталь? Это в тылу где-нибудь.
- В современной войне тыл в любую минуту может оказаться фронтом, - повторил я фразу, слышанную от Осипа Марковича. Женька посмотрел на меня, кажется, с уважением.
- Слушай, - сказал он вдруг. - Я давно хотел тебе предложить. Тебе и вообще всем ребятам. Женщины тут тащат продукты. По десять раз. Туда и обратно с кошелками, туда и обратно. Панику сеют. Затруднения создают. Надо нам у подворотни пикет поставить.
- Какой пикет - спросил я. Я смутно помнил, что пикет - это что-то связанное с забастовками.
- "Какой пикет?! - разозлился Женька. - Не понимаешь какой? Стать здесь и не пускать всех, кто второй раз с кошелкой. По три человека. Каждые четыре часа сменяться. Идея показалась мне великолепной. Через пять минут я, Женька и Ленка Морозова, та самая, которую звали Ленина, а не Елена, стояли пикетом около подворотни. Первая нарушительница, которую мы задержали, была моя бабушка. Строго говоря, бабушка не была нарушительницей. Уговор был задерживать только тех, кто будет замечен дважды, а она возвращалась из магазина первый раз. Ребята даже и не думали ее останавливать. Но я сказал:
- Там что у тебя в кошелке? Сахар? А ну, неси обратно! Дома две пачки рафинада в буфете лежат, я сам видел! Бабушка оторопело спросила:
- Куда ж мне теперь с ним?
- А вы попросите поменять на что-нибудь другое, вам обменяют, - посоветовала Лена. Бабушка, ни слова не говоря, ушла и минут через десять вернулась. Проходя мимо нас, она суетливо раскрыла кошелку и показала нам: вместо сахара там теперь был пакет с какой-то крупой и бутылка подсолнечного масла. Второй нарушительницей оказалась дяди Федина жена - тетя Груша. Во дворе ее все звали Тимофеевна. Тимофеевна, ничего не подозревая, шла своей быстренькой, семенящей походкой. Подойдя к нам, она даже огрызнулась:
- Ну, чего проход загородили? Ай вам другого места не нашлось? Женька вышел вперед и сказал:
- Назад, гражданка! Вы второй раз с кошелкой. Тимофеевна от неожиданности сначала даже не стала возражать. Она остановилась и сказала жалобно:
- Ах ты господи? Что ж теперь делать? Но потом ей, видимо, наш пикет показался не очень авторитетным.
- Ишь чего выдумали! К себе домой не пускают! А ну!.. Но мы были непреклонны. Тогда Тимофеевна переменила тактику.
- Борюшка, - сказала она мне, - в другой раз я не пойду! А сейчас уж пусти ты меня, ради Христа.
- Как вам не стыдно! - сказал я. - У вас муж член партии, а вы сеете панику? Создаете затруднения. Вот тут уж Тимофеевна взъярилась по-настоящему.
- Да пропадите вы все пропадом! - закричала она визгливым, плачущим голосом, выхватила из кошелки какой-то пакет и бросила его нам под ноги. Пакет разорвался, и из него посыпались макароны. Я был уверен, что если она не постыдится рассказать обо всем дяде Феде, он, конечно, будет на нашей стороне. Но вышло иначе. Вечером дядя Федя зашел к моей маме и сказал ей, что у Тимофеевны тридцать пять лет трудового стажа и что я еще молод, чтобы срамить ее на весь двор.
- Кто им позволил создавать эти, понимаете, заградительные отряды? Кто им дал указание, я вас спрашиваю? Ах, никто не давал? А вы знаете, как это называется? Мама засмеялась, и тогда дядя Федя разозлился еще больше:
- Вы не смейтесь, пожалуйста! Авангардизм чистой воды. Я вам как член партии это говорю! Тут мама перестала смеяться и сказала:
- Не знаю, Федор Игнатьевич, я человек беспартийный, может, я и не права. Только мне кажется, что никакого авангардизма тут нет. Если вы считаете, что ребята ошиблись, поговорите сами с Борей. Поговорите с ним как член партии с пионером. Я думаю, вас он скорее послушается. Дядя Федя сказал, что он этого так не оставит, но разговаривать со мной не стал. Наверное, понял свою ошибку. А может быть, просто не успел, потому что через два дня я, мама и бабушка уехали из Москвы. 6 Я был так поглощен делами нашего пикета и тем, что мама будет теперь носить командирскую форму и две шпалы в петличке, что даже не очень расстроился, когда узнал, что Житомирский госпиталь находится не в Житомире, а в маленьком городке на Северном Урале. Его туда эвакуировали. Поэтому он и назывался эвакогоспиталем. А может быть, потому, что туда, на Северный Урал, в глубокий тыл, будут эвакуировать тяжелораненых бойцов. Всю дорогу бабушка изводила меня разговорами о сахаре.
- Это разве теперь дети - начинала она всякий раз, когда удавалось достать кипяток. - У людей все как у людей! Кто внакладку, кто вприкуску. Одни мы вприглядку пьем! Две пачки у него дома рафинаду? Надолго их хватило, этих твоих двух пачек? Вот и пей теперь пустой кипяток! Если не считать этих приставаний, в дороге мне все очень нравилось. Нравилось, что мы едем не в обыкновенном поезде, а в товарных вагонах, которые взрослые почему-то называли "теплушки". Нравилось, что останавливаемся не на станциях, а просто где-нибудь в поле и стоим часа три, а то и больше. За три часа можно много успеть. Если б не мама и бабушка, конечно. На каждой остановке у нас происходил примерно такой разговор:
- Боря, ты куда?
- Там костер, картошку пекут!
- Нечего тебе туда ходить! Еще отстанешь от эшелона, где мы тебя тогда найдем? Это я-то отстану!.. Лучше бы о себе побеспокоились. Я в крайнем случае могу и на ходу в последний вагон запрыгнуть. Но больше всего мне нравилось, что мы едем, и едем вот уже шесть дней, а конца нашему путешествию не видно. И все- таки, когда мы наконец приехали, я обрадовался. Этот город был совсем не похож на те города, в которых мне приходилось бывать раньше. Даже имя у него было чудное, не похожее на обыкновенное. Он назывался Надеждинский завод. Как будто весь город состоял только из завода. Вообще-то говоря, так оно и было. Но в первый день меня поразило и бросилось мне в глаза совсем другое. Мы приехали вечером. Мама оставила меня и бабушку на вокзале с вещами, а сама куда-то ушла и долго не возвращалась. Потом она вернулась, держа в руках какую-то бумажку. К нам подошел веселый старик в ватнике и в брезентовых рукавицах.
- Ну как, поехали - спросил он, как будто уже давно сговорился с нами и только ждал, когда мы наконец будем готовы.
- Поехали, - сказала мама, близоруко вглядываясь в бумажку. - Улица Сакко и Ванцетти, четырнадцать. Старик беспомощно заморгал.
- Это, надо быть, третья линия будет, - загадочно сказал он, покидал наши вещи в телегу, и мы тронулись. Третья линия оказалась улицей Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Когда выяснилось, что мы приехали не туда, старик ничуть не растерялся. Скорее даже, наоборот, обрадовался.
- Стало, наша будет аккурат седьмая, - радостно уверял он. Проездив еще немного по городу, мы наконец добрались до улицы Сакко и Ванцетти и разыскали предназначавшуюся нам комнату. Мама и бабушка стали устраиваться, разбирать вещи. Меня на время оставили в покое. Я вышел на улицу и огляделся. Это была очень ровная и довольно широкая улица с одинаковыми двухэтажными деревянными домами. Внезапно темный край неба осветился яркой вспышкой. Пламя задрожало и погасло, оставив медленно угасающую, неровную огненную черту.
- Ой, что это?! - крикнул я.
- Шлак вылили, - спокойно сказал за моей спиной чей-то голос.
- А-а-а, - протянул я понимающе, как будто знал, что такое шлак и для чего его выливали. Огненная река вспыхнула в последний раз, стала темно-багровой и погасла, на этот раз уже совсем. Сразу потемнело, хотя в окнах домов по- прежнему горел свет. Здесь не было затемнения, и в окнах горел свет, и оконные стекла не были заклеены крест-накрест полосками газетной бумаги. Я оглянулся. Рядом со мной стоял щупленький, низкорослый мальчишка.
- Ты в каком классе - спросил я просто так, чтобы что-нибудь сказать.
- В седьмой пойду, - сказал он. Я удивился. Значит, мы с ним в одном классе. А на вид можно было подумать, что он в пятом, от силы в шестом.
- Ты в девятой школе будешь учиться - спросил он. Я сказал, что не знаю. Тогда он предложил:
- Айда завтра в девятую записываться.
- Айда! - сказал я. - А далеко?
- Не-е, близко? Сразу за Белой Речкой. Километра четыре, не боле. Зато там все наши ребята будут. Раньше я во вторую ходил - туда теперь раненых положили, в госпитале мест не хватает. А в двадцать пятой ремонт.
Он говорил "полОжили" и "рЕмонт". Я даже не сразу понял, что это за штука такая "ремонт".
7 Утром мама мне сказала:
- Боря, ты, наверное, забыл? Сегодня первое сентября. Я узнавала, тут недалеко от нас школа номер шестнадцать. Очень хорошая школа, лучшая в городе. Я по пути зайду и запишу тебя.
- Ничего я не забыл! - буркнул я. - И не надо меня записывать. Я уже договорился, я в девятой школе буду учиться. Там все наши ребята.
- Какие ребята - удивилась мама. - Ты же все равно никого не знаешь! И это, наверное, где-нибудь у черта на куличках?
- Нет, мама, я уже знаю, я вчера познакомился. Это совсем близко, прямо за Белой Речкой.
- Ну, в девятой так в девятой, - сказала мама. - Вот твоя метрика и справка о переходе в седьмой класс. Только смотри, обязательно сделай это сегодня, слышишь, Боря?
- Слышу, - сказал я, - обязательно сделаю. Вчерашний мальчишка уже слонялся по улице, ожидая меня. Утром, при свете, оказалось, что он рыжий. У него были рыжие волосы, белые брови и короткие белые ресницы. Звали его Петька, Петька Ивичев. Всю дорогу он рассказывал мне про белореченских ребят, которые издавна враждуют с городскими и, возможно, даже сегодня устроят нам засаду. Я уже стал было раскаиваться, что так легкомысленно согласился идти записываться в эту чертову девятую школу. К тому же я и не подозревал, что четыре километра - это так далеко. Во дворе школы толпилось человек пятнадцать ребят. Увидев нас, один из них закричал:
- Петух! Рыжий Петух пришел! Это, безусловно, относилось к Петьке. Петька сразу же растворился в толпе, и я остался один.
- Колян! - закричал в это время тот же мальчишка. - Ура, ребята! Чапай идет! В калитку вразвалочку входил невысокий, плотный паренек с черным чубом, налезающим на глаза. Без сомнения, это и был Чапай. Появление его было встречено громкими, радостными выкриками. На меня никто не обращал внимания. В другом конце двора, у забора, толпились девочки. Там тоже радостным визгом встречали знакомых, смеялись, тормошили друг друга. А чуть поодаль, почти у самых школьных дверей, независимо стояли трое ребят, по-видимому, знакомых друг с другом, но, так же как я, не знающих здесь никого. Особенно бросился мне в глаза один из них. Это был здоровенный парень, неуклюжий и сутулый. Маленькими хитроватыми глазками он снисходительно наблюдал всю эту сутолоку мальчишечьих и девчоночьих встреч, словно большой, добродушный пес, лениво следящий за возней расшалившихся щенков. Я подошел к этим троим и молча стал рядом с ними. Скоро дверь школы отворилась, и все, толкаясь, повалили внутрь. В маленьком, тесном классе за столом сидела полная женщина в очках.
- Марья Алексеевна, завуч - шепнул мне опять оказавшийся около меня Петька. Марья Алексеевна встала и вышла из-за стола.
- Тихо, тихо, не толпитесь, - заговорила она. - Здравствуйте! Здравствуй, Ивичев, здравствуй! Стань-ка в сторонку, милый, ты не прозрачный! Я хочу на новеньких поглядеть. Ребята стали по стенке. Те, кто был в шапках, сняли их и держали в руках.
- Рассаживайтесь, рассаживайтесь по партам! - сказала Марья Алексеевна. Все быстро расселись. Только тот здоровенный сутулый парень, на которого я еще раньше обратил внимание, не садился.
- Можно спросить - сказал он неторопливо. - Мы сами с Украины. Приехали сюда с хоспиталем. Документов у нас нет.
- Так-так, - сказала Марья Алексеевна, - эвакуированные? Все трое кивнули.
- И ни у кого нет документов?
- Ни у кого нету. Школа у нас сгорела - оправдываясь, сказал худенький мальчик с грустными черными глазами. Он был в опрятной темной курточке, в узких, чуть коротковатых брюках и в огромных, взрослых, наверное отцовских, ботинках. - Ни у кого нету, - повторил он еще раз все тем же извиняющимся тоном.
- Так-так, - еще раз сказала Марья Алексеевна. - Ну ничего! Никаких документов вам здесь и не нужно. Просто вы мне сейчас немного о себе расскажете. Как вас зовут, где вы жили. И все. И никаких документов. Она села за стол, обмакнула перо в чернильницу и приготовилась записывать.
- Борц, - сказал увалень с маленькими медвежьими глазками. - Борц Григорий Захарович. Он рассказал, что они жили в Житомире, что отец его работал в "Заготзерне", а теперь неизвестно, где он, а мать работает медсестрой в госпитале. Худенького мальчика, который рассказывал про то, как сгорела школа, звали Витя Черненко. Он приехал с дядей и тетей. Родителей у него не было. Записав все про него, Марья Алексеевна посмотрела на меня.
- А ты, - сказала она, - тоже эвакуированный? Я кивнул. Я не вполне был уверен, могу ли я считать себя эвакуированным. Но теперь, после того как я кивнул, мне уже неудобно было признаться, что в кармане у меня лежит новенькая, словно вчера выданная метрика и справка о том, что я успешно перешел в седьмой класс 635-й школы Свердловского района города Москвы. Сказать, что у меня есть документы, - это значило признаться в том, что у меня школа не сгорела, что я никогда не был под бомбежкой и вообще, что называется, не нюхал пороха.
- Сазонов - сказал я хрипло. - Моя фамилия Сазонов. И вдруг я понял, что могу сейчас сказать про себя все, что захочу, и мне поверят, и запишут в классный журнал, и так это и останется. Могу сказать, что у меня тоже нет ни папы, ни мамы. Могу сказать, что я жил не в Москве, а в Житомире, что перешел не в седьмой, а в восьмой класс. Ведь на мне это не написано. Вот Петька Ивичев перешел в седьмой, а я сначала подумал, что он в пятом. У меня даже дух захватило.
- Так-так, - сказала Марья Алексеевна, - Сазонов? Имя? И тут я сказал:
- Феликс. Марья Алексеевна, видно, не расслышала.
- Как - переспросила она.
- Феликс, - твердо повторил я. Парень, которого все называли "Чапай", усмехнулся, открыв ослепительно белые зубы и, приложив руку к уху, сказал громко, на весь класс:
- Как? Как? Хве? А дальше?
- Чапаев, не паясничай! - строго сказала Марья Алексеевна.
Я удивился, услышав, что она всерьез назвала этого парня с чубом Чапаевым. Я думал, это его так ребята прозвали, а оказывается, у него просто фамилия была такая - Чапаев. У нас в Москве не всякого могли назвать этим именем. Это надо было заслужить. В каждом дворе был свой Чапай и в каждой школе тоже. Чапай - это значило самый отчаянный, самый храбрый, всеми мальчишками признанный вожак и любимец.
- Чапаев, не паясничай! - сказала Марья Алексеевна. - И не показывай свою некультурность. Замечательное имя, очень красивое. - И, заглянув в свои записи, она раздельно произнесла: - Фе-ликс. Как только я понял, что чубатый Колян на самом деле вовсе не Чапай, что Чапаев - это просто его фамилия, он сразу померк в моих глазах. Мне стало легко и весело.
- Меня назвали так, - сказал я небрежно, - в честь Феликса Дзержинского. Мой отец работал с Дзержинским. Феликс Эдмундович умер как раз когда я родился. Поэтому мне дали такое имя - Феликс. То есть я родился через год. Но это неважно. Я победоносно оглянулся на Кольку Чапаева и на других ребят. Но ни на кого это, кажется, не произвело особого впечатления. Марья Алексеевна сказала:
- Как же, как же? Феликс Эдмундович Дзержинский был одним из выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства. Вот пусть нам кто- нибудь сейчас напомнит, какую важнейшую государственную комиссию возглавлял Дзержинский в первые годы советской власти. У всех сразу стали скучные лица, как на уроке. Только Борц с видимым удовольствием встал и ответил полным ответом:
- Можно я скажу? В первые годы советской власти Феликс Эдмундович Дзержинский был председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией.
- Так-так - сказала Марья Алексеевна, - очень хорошо. Теперь так. Кто учился во второй школе, поднимите руки. Напряжение сразу исчезло. Все облегченно задвигались, стали хлопать крышками парт, тянуть руки прямо к носу Марьи Алексеевны, галдеть и переговариваться. Обо мне забыли. 8 Письмо пришло утром. Мама, как обычно, очень рано ушла в госпиталь на дежурство. Я собрался идти в школу и ушел бы, если б не Петька, который помахал мне из окна и крикнул:
- Эй, дожди меня! Я взобрался на засыпанную снегом поленницу, подложил свой портфель и уселся там, дожидаясь, пока соберется Петька. Во двор вышла бабушка. Увидев меня, она сказала:
- С ума сошел? на снегу сидеть? Ну-ка слезь сейчас же! Погляди лучше, вот письмо пришло, не от отца ли? Только тогда я заметил, что в руке у нее конверт. Конверт был без марки, с длинным прямоугольным штемпелем. Помню, первое чувство, с которым я заглянул в него, было разочарование. Сначала мне показалось, что конверт пустой. Во всяком случае, никакого письма в нем не было. Только длинненькая белая бумажка, на которой бледными лиловыми буквами было написано, что тов. Сазонов Н.П. пал смертью храбрых в боях с немецко- фашистскими захватчиками. Что я сказал бабушке, и когда пришла мама, и кто показал письмо ей, ничего этого я не помню. Помню только, я все время старался думать, что это какая-то ошибка. Мало ли на свете Сазоновых. Отец жив, кончится война, и он приедет сюда, за нами, и мы все вместе поедем в Москву. Но ничего у меня не получалось. Тоскливая, ноющая боль, поселившаяся где-то внутри меня, как магнитом притягивала все мои мысли. Начинал ли я думать о Кольке Чапаеве, который бросил школу и ушел работать на завод, или о нашем учителе литературы, смешном старике с огромным фиолетовым носом, мне сразу вспоминалось, что Кольке пришлось бросить школу, потому что отца у него взяли в армию, а новый учитель литературы пришел к нам в середине года, потому что наш любимец Георгий Алексеевич уже месяц как воевал под Москвой. Там же, где папа. Обои на стене, газета на подоконнике, старая наша вилка, которую мы привезли с собой из Москвы, и другая вилка, со сломанным черенком, которую бабушка одолжила у соседей, - все, что ни попадалось мне на глаза, все напоминало мне о папе: папа не любил обоев, он говорил, что от них клопы; папа любил спать летом на улице, накрыв лицо газетой; папа ел этой вилкой, а этой вилкой он никогда не ел. Тогда я стал нарочно думать о нем. О том, как до войны я ходил с ним в зоопарк или в кино. Стал вспоминать старые, давнишние наши разговоры. Особенно отчетливо запомнился мне почему-то один такой разговор. Это было вечером, в один из обыкновенных довоенных вечеров. Мама ходила из комнаты в кухню и из кухни в комнату, гремела посудой. Папа сидел на диване и читал газету, а я, по обыкновению, приставал к нему с расспросами о той, старой войне, в которой он когда-то участвовал.
- Пап, - спросил я, - а ты стрелял?
- Нет, сынок, не стрелял, только палочкой махал.
- Какой палочкой?
- Своей, капельмейстерской, дирижерской.
- И совсем не стрелял? Ни одного разочка? Отец задумался и вдруг оторвался от газеты:
- Один разочек был. До сих пор вспомнить страшно! Он встал, прошелся по комнате и опять надолго замолчал, словно забыл про меня.
- Ну! - требовательно сказал я. И он начал рассказывать:
- Наша часть заняла Жлобин. Маленький городишко. Я остановился на квартире у врача. Квартира большая, а в ней только трое: врач, его жена и красавица-дочь.
- Ну уж, красавица - это сказала мама.
- Я тебе говорю, Маша? Кра-са-вица! - весело сказал отец.
- Ну - нетерпеливо сказал я.
- Ну и вот, - продолжал отец, - вечером эта красавица стала спрашивать у меня, вот совсем как ты, - сказал он мне, но посмотрел при этом почему-то на маму, - умею ли я стрелять, да заряжен ли у меня револьвер? Ну, я возьми и скажи: "Хотите, я вам покажу?" Она говорит: "Покажите! Да" Стала у печки. Там у них в столовой такая белая кафельная печь была, большая. Стала и говорит: "Стреляйте!" И смеется. Я глянул: в барабане всего три патрона. Сейчас ударит вхолостую, а следующий выстрел уже будет настоящий. Ну, прицелился я в нее, и словно толкнул меня кто - не могу! Даже холостым не могу стрелять в живого человека. Поднял руку чуть повыше и спустил курок. Отец замолчал и посмотрел на маму.
- Ну?! - еще раз сказал я.
- Ка-ак тут бабахнуло! От печки только осколки посыпались. Красавица стоит белая, как та печь, я весь дрожу. Оказывается, что произошло: когда на курок нажимаешь, барабан поворачивается и подает следующий патрон. А я про это забыл.
- И всё - спросил я.
- А тебе мало? Ни за что ни про что чуть человека не убил.
- Ну-у, - сказал я разочарованно, - это не считается! А где теперь эта девушка? Я плохо помню, что мне ответил тогда папа. Кажется, сказал:
- Ну, мало ли где теперь может быть эта девушка! Столько лет прошло. Во всяком случае, мне тогда и в голову не пришло, что девушка, которую он чуть не убил, - моя мама. А теперь, вспомнив этот давний разговор, я сразу посмотрел на маму. Она стояла около печки. У нас была тогда такая круглая черная печка в комнате. Мама стояла около этой печки, и лицо у нее было белое- белое. "Как та печь", - вспомнилось мне.
- Мам! - сказал я. - Помнишь, давно, до войны еще, папа рассказывал, как он нечаянно выстрелил в девушку. Это он тогда в тебя?.. Мама быстро вышла из комнаты. Я побежал за ней. Она вышла в кухню, опустилась на низенькую скамеечку, машинально зачерпнула кружкой воду из ведра и стала пить.
- Мам, - сказал я, - ну не надо! Мама посмотрела на меня, закусив губу. "Сейчас заплачет! - испуганно подумал я. Не знаю, почему я так боялся ее слез. Может быть, мне казалось, что если мама не плачет, значит, все еще не так плохо. Не знаю. Я стоял перед ней, изо всех сил сжимая ее руку, и бестолково повторял одно и то же:
- Не надо, мам. Прошу тебя, ну не надо!
9 Кончался учебный год. Я принес маме табель, в котором уже были проставлены годовые отметки. Она взяла его в руки, посмотрела и сказала:
- Ничего не понимаю? Какой Феликс?.. Борис, это твой табель?? Я даже не сразу понял, о чем она. Так много времени прошло и столько событий случилось за это время, что я совсем забыл про свое новое имя. В школе к нему давно уже все привыкли, перестали обращать внимание на его необычность. Толстую белобрысую верзилу с задней парты - Малю Попову - звали Амалией. Меня звали Феликсом. Мало ли бывает на свете разных имен? Учителя обычно называли нас по фамилиям. Для них я был просто Сазонов. Только Иван Сидорович, наш новый учитель по литературе, наткнувшись в классном журнале на мое имя, сказал:
- Феликс! От-то да! Удружили родители? Сейчас такое имя редкость! А раньше, бывало, еще и не то встретишь. Ведь как бывало: сумели ублажить попа - наречет младенца как положено, даст имя человеческое. Обидели батюшку, мало поставили на крестины - он такое имечко в святцах разыщет, и не выговоришь. Труднее всего было бы, наверное, привыкнуть к новому имени мне самому. Но мне привыкать не пришлось. Ребята с легкой руки Петьки Ивичева, который стал своим человеком у нас дома, звали меня Борей. То, что мальчика, носящего трудное и малопонятное имя Феликс, в обыденной жизни зовут Борькой, казалось им таким же естественным, как то, что всех Александров зовут Сашками или Шурками, а всех Николаев - Кольками? Короче говоря, я и сам давно уже забыл о том, что стал Феликсом.
- Какая дикая фантазия! - сказала мама, когда я ей во всем признался. - Какая нелепая, дурацкая выдумка! И почему именно Феликс? Мне не хотелось объяснять, почему. Да если бы и хотелось, я, наверное, не смог бы это сделать.
- Вот что, Боря, - сказала мама. - Эту глупую историю надо как-то кончать. На днях ты получишь свидетельство об окончании семи классов. Как ты себе представляешь, там тоже будет стоять какое-то чужое имя? Пойми, ведь это документ! Первый в твоей жизни настоящий, серьезный документ, который ты сам заработал. Это итог семи лет твоей жизни. И вдруг там будет написано, что ты - это не ты. Завтра же пойди и расскажи обо всем завучу! Я молчал. Я вдруг отчетливо увидел: фотография, два человека стоят рядом, и солнечные блики лежат на полу. На одном - шинель внакидку, у него худое изможденное лицо, острая бородка. Другой очень молод, он в кожаной куртке, в фуражке со звездой. Фелька Кононенко сидит на столе, покусывая ноготь и обдумывая ход. "Да, - говорит он, - это отец рядом с Дзержинским - Поэтому меня и назвали Феликсом". Имя Феликс звучало тогда для меня почти так же, как самое главное слово на земле - "революция". А революция, думал я, - это праздник. Это солнце, сверкающее в медных трубах духового оркестра, это красные флаги. Мне казалось, что если бы меня звали Феликсом, я бы тоже жил совсем в другом мире - в том большом, веселом и праздничном мире, в котором живут все настоящие революционеры. Как давно это было! Каким маленьким и глупым я был тогда! Но пойти и сказать Марье Алексеевне, что на самом деле я не Феликс, - этого я тоже не мог. Это значило отказаться от чего-то неизмеримо большего, чем имя. Тогда я не понимал, от чего. Теперь понимаю. Это было для меня все равно что перейти в другое гражданство.
- Не дури, Борька, ты уже не маленький! - сказала мама. - Завтра же пойдешь к завучу. Ну, договорились? Я молчал. Мама запустила пальцы мне в волосы, притянула голову к себе, посмотрела мне прямо в глаза.
- Глупый, - сказала она. - Совсем еще глупый!
10 На другой день в школе я, конечно, вспомнил бы об этом разговоре, если бы не выпускной вечер. Наша школа была семилеткой. Если бы я кончил седьмой класс в Москве, это значило бы, что я перешел в восьмой. Только и всего. А здесь все было совсем иначе. Седьмой класс был самым старшим, последним. Многие наши ребята вовсе не собирались учиться в восьмом классе. Некоторые уходили в техникум. Другие вообще бросали учебу.
- Работать пойдем, - говорили они, - хватит, выучились!
- А куда - спрашивал я изумленно. Они отвечали:
- В завод. Отвечали так, как будто это было чем-то само собой разумеющимся. Раньше мне и в голову не приходило, что, окончив седьмой класс, можно вообще перестать учиться в школе. Школой измерялась вся моя жизнь. Я никогда не говорил о себе: "Это было, когда мне было одиннадцать лет". Я говорил: "Это было, когда я был в пятом классе". Жизнь делилась на учебный год и каникулы. Каникулы означали конец учебного года и переход из одного класса в другой. Все это было незыблемым, как порядок мироздания. И вдруг оказалось, что этот порядок может быть изменен. Я сам могу его изменить. Стоит мне только захотеть. Захочу - пойду в восьмой класс, захочу - пойду в техникум. А захочу - вообще не буду учиться. Так приятно было думать: "Надо решать". В глубине души я, правда, не сомневался, что ничего решать мне не придется. Все произойдет само собой и так или иначе кончится тем, что я пойду в восьмой класс: бросить школу и мама не позволит, и вообще. Нет, я не собирался воспользоваться внезапно открывшейся мне возможностью. Но меня волновало, что такая возможность есть. Все-таки я не просто перешел из класса в класс - я кончил школу! Через три дня состоится выпускной вечер. Марья Алексеевна даже обещала, что у нас на вечере, возможно, будет ситро. Почти довоенная роскошь! Но даже если б не ситро, одних этих слов - "выпускной вечер" - было достаточно, чтобы я забыл обо всем на свете. Неудивительно, что я не сразу вспомнил про свой неприятный разговор с мамой. А тут еще прошел слух, что Марья Алексеевна запретила устраивать на выпускном вечере танцы. Нам, мальчишкам, конечно, было плевать на это. Но девчонки подняли страшный визг. Они требовали, чтобы классный организатор пошел к завучу и спросил, почему нельзя, чтобы были танцы! Классным организатором у нас был Борц. В Москве я привык к тому, что звание это не дает избранному никаких прав и не накладывает на него решительно никаких обязанностей. У нас обычно классным организатором выбирали самую тихую девочку, отличницу. Аккуратным, красивым почерком она составляла списки отсутствующих на уроке, и к этому, пожалуй, сводилась вся ее деятельность. Когда на собрании в классные организаторы выдвинули Борца, я подумал, что он откажется. По моим понятиям, этого требовали приличия. Но Борц был откровенно рад и даже не пытался этого скрыть. Полыценно улыбаясь, он сказал:
- Ладно. Только, чур, слушаться!.. Его слушались. "Борц велел" - это было законом. Зато и он всегда был заодно с классом, даже если рисковал получить за это нагоняй. Но тут Борц вдруг заупрямился. Идти к завучу и спрашивать, будут ли на нашем вечере танцы, он не хотел ни под каким видом.
- Хучь будут, хучь нет, - твердил он, - не пойду! Но девчонки не успокаивались. Они сначала орали, потом стали умолять Борца, а когда и это не помогло, у них у всех стали такие жалкие, несчастные лица, что я не выдержал.
- Ну вас к черту! - сказал я. - Я пойду! В учительской было тихо и непривычно пусто. На диване сидел Иван Сидорович и с сердитым, обиженным лицом читал газету. Он даже не поднял головы, когда я вошел, и пока я раздумывал, нужно ли поздороваться с ним или лучше незаметно пройти мимо, из соседней комнаты донесся голос, от которого я вздрогнул.
- Я понимаю, что эта глупость доставит вам много забот, но что ж поделаешь - услышал я. Никаких сомнений: это был голос моей мамы. Я стал за шкаф с учебными пособиями, чтобы Иван Сидорович не мог меня увидеть, и прислушался. Говорили обо мне.
- Мало ли что может случиться, - сказала мама, - госпиталь могут неожиданно перевести в другой город, и тогда в восьмом классе Боре придется учиться уже не здесь.
- Ну конечно, - сказала Марья Алексеевна, - я и представить себе не могла! Разве можно угадать все, что они в состоянии выдумать! Он такой серьезный. К Ивану Сидоровичу, видимо, кто-то подсел, потому что он вдруг громко сказал:
- От бисова душа! И стал ругать Черчилля за то, что он долго не открывает второй фронт.
Из-за Черчилля я прослушал, что говорила обо мне маме Марья Алексеевна. Иван Сидорович ненадолго замолчал, и я услышал, как мама сказала:
- После разговора с ним я поняла, что он сам ни за что этого не сделает. Мальчишки в этом возрасте так самолюбивы!
- Да, - сказала Марья Алексеевна, - переходный возраст самый трудный. Тут Иван Сидорович снова стал объяснять кому-то, что англичане всегда любили загребать жар чужими руками. Когда он замолчал, мама и Марья Алексеевна говорили уже о каких-то совершенно неинтересных и не касающихся меня вещах: об умении управлять своей фантазией, о сдерживающих центрах и еще какую-то ерунду о переходном возрасте. Все это они говорили уже в дверях кабинета Марьи Алексеевны, буквально в двух шагах от меня. Я видел, как мама близоруко щурится. Потом она протянула Марье Алексеевне руку и улыбнулась, и сразу стало видно, что у нее сбоку не хватает двух зубов. Когда она улыбнулась, острое чувство жалости к ней вдруг пронзило меня. Раньше я бы сгорел со стыда от одной только мысли, что мама может прийти в школу и разговаривать обо мне, как о маленьком. Я не мог бы после этого посмотреть Марье Алексеевне в глаза. А теперь - странное дело! - мне было решительно все равно, что подумает обо мне Марья Алексеевна и вообще кто бы то ни было. "Не пойду я в восьмой класс, - вдруг твердо решил я. - И в техникум не пойду. Пойду работать на завод, как Колька Чапаев, как другие ребята. Получу зарплату и дам маме, и пусть она себе вставит золотые зубы". 11 Через три дня, на выпускном вечере нашего класса, Марья Алексеевна вручала нам свидетельства об окончании школы. Все было очень торжественно. На сцене нашего маленького школьного зала сидели все учителя, директор школы и еще какие-то незнакомые нам люди. Марья Алексеевна, улыбающаяся, в новом нарядном платье, называла имя и фамилию. Тот, кого выкликали, поднимался на сцену. Его поздравляли, говорили ему разные торжественные слова и давали свидетельство.
- Борц Григорий! - громко выкрикнула Марья Алексеевна. Борц, красный от смущения, встал и подошел к столу. Марья Алексеевна стала что-то говорить ему, радостно улыбаясь. Я представил себе, как дойдет очередь до меня и она так же громко, на весь зал, крикнет: "Сазонов Борис!" И, радостно улыбаясь, объявит: "Вы думали, Сазонова зовут Феликс? Я тоже так думала! Но недавно выяснилось, что Сазонов нас обманул. Оказывается, все это была его фантазия". "Ну и пусть!"- подумал я и приготовился к самому худшему. И все-таки, когда очередь дошла до меня, сердце у меня ёкнуло.
- Сазонов Борис! - сказала Марья Алексеевна. "Сейчас начнется! - пронеслось у меня в голове. - Сейчас все так и вытаращат глаза. Почему Борис? Какой такой Борис?" Держа свидетельство в обеих руках, с напряженным, застывшим лицом, ни на кого не глядя, я прошел в самый конец зала и плюхнулся на стул рядом с Борцем.
- Дай помацать! - сказал Борц и потрогал мое свидетельство пальцем.
- Знаешь что!.. - зло сказал я. И вдруг осекся. Я ждал насмешек. Самые безобидные слова в тот момент я принял бы за издевку. Но у Борца было такое бесхитростное и простодушное лицо, что я вдруг сразу поверил, что в словах его нет ничего, кроме простого любопытства. Я поднял голову и поглядел на ребят. Одни слушали, что говорила в этот момент Марья Алексеевна, другие, как мы с Борцем, бережно разглядывали только что полученные новенькие свидетельства. Никто ничего не заметил. Феликс Сазонов перестал существовать. Он пропал, растаял, рассыпался, растворился в воздухе. И никто этого не заметил. Я был так поглощен случившимся, что не сразу понял, почему все вдруг встали и гурьбой двинулись в учительскую. Марья Алексеевна тоже не сразу это поняла. Она оборвала на середине длинную, торжественную фразу и уже не радостным, а обычным учительским голосом громко спросила:
- Что? В чем дело? Все вразнобой закричали:
- Сообщение! Важное сообщение! Только тут я сообразил: радио! Кто-то услышал позывные! Сейчас по радио передадут важное сообщение. Когда я добежал до учительской, туда уже было не пробиться. Сзади меня, запыхавшись, шла Марья Алексеевна. Она осталась стоять в дверях, а я с трудом протиснулся внутрь. Борц, увидев, что я пытаюсь пробраться вперед и не могу, раздвинул толпу ребят, взял меня за плечи и поставил перед собой, прямо напротив нашего старенького школьного репродуктора. Его ручищи так и остались у меня на печах. Стоять было неудобно и жарко, но я бы ни за что не согласился, чтобы Борц убрал руки. Мне казалось, что он нарочно положил руки мне на плечи, чтобы показать, что считает меня товарищем, своим парнем. Вот в последний раз прозвенели позывные, и знакомый голос Левитана сказал:
- От Советского Информбюро. Я представил себе, как сейчас этот торжественный и печальный голос скажет: "После продолжительных, ожесточенных боев наши войска оставили город". Наверное, не я один так подумал. Мы все привыкли к этой фразе. Она почти не менялась. Менялись названия городов. В тот день на очереди был Воронеж. Но тут голос Левитана внезапно утратил свой торжественно-печальный тон. Спокойно, как будто в этом не было ничего особенного, он сказал:
- Налет советских самолетов на Кенигсберг. На днях большая группа наших самолетов в сложных метеорологических условиях бомбардировала военно- промышленные объекты города Кенигсберга в Восточной Пруссии. В результате бомбардировки в городе возникло тридцать восемь очагов пожара, из них семнадцать пожаров в центре города. Я осторожно оглянулся. На всех лицах застыло одно выражение. Это было и напряженное внимание, и удивление, и робкая, недоверчивая радость, смесь радости и страха, что радость может оказаться преждевременной. Я подумал, что и у меня сейчас, наверное, точь-в- точь такое же лицо.
- Четырнадцать пожаров, возникшие на юго-западной окраине города, - гремел голос Левитана, - сопровождались десятью взрывами. Семь очагов пожара и три сильных взрыва возникло на северо-западной окраине города. Я вдруг вспомнил, как в самом начале войны прошел слух, что наши взяли Кенигсберг. Я не сомневался тогда, что это правда. Неужели это было так недавно? И неужели тогда уже была война? Не может быть! Это было тыщу лет назад, еще в той, прежней, довоенной жизни. Теперь все было другое. Немцы были в Киеве, в Крыму и на Кавказе. Они были в той маленькой волжской деревушке, в которой мы с мамой жили, когда началась война. И вот наши бомбят Кенигсберг! Это казалось чудом. Если б я не слышал это только что сам по радио, ни за что бы не поверил!
- Все наши самолеты вернулись на свои базы, - сказал Левитан. Передача важного сообщения была окончена. Мы стояли и молчали.
Ссылки: