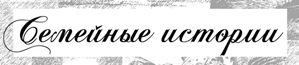 |
Главная авантюра Б. Сарнова - при советской власти он решил стать критиком
Недавно мне позвонил корреспондент "Известий" и попросил ответить на вопрос: "Что вы считаете самой большой авантюрой в вашей творческой карьере?" Мысленно перебрав самые разнообразные обстоятельства моей долгой жизни в литературе, я в конце концов остановился на таком ответе:
- То, что при советской власти я решил стать литературным критиком. Когда газета вышла в свет, выяснилось, что я с этим своим ответом оказался в очень интересной и весьма почтенной компании. На тот же вопрос отвечали - блистательная опереточная дива Татьяна Шмыга, знаменитый актер и певец Вахтанг Кикабидзе, главный режиссер Ленкома Марк Захаров, Юлий Ким и, наконец, - - Рашид, авантюрист-профессионал с Даниловского рынка. Все ответы моих коллег - непрофессиональных авантюристов - были хороши. Но ответ "авантюриста- профессионала" был просто очарователен: Авантюра, я знаю, - нехорошее слово, не люблю. Хотя, если с другой стороны посмотреть, вся жизнь авантюра, да? А в моем деле какое может быть творчество - из ничего сделать миллион. Дешево купить - дорого продать. Это авантюра?.. Это не авантюра, это торговля, камерсия! Не знаю, какой ишак сказал - деньги не пахнут. Кинзой пахнут, укропом пахнут, реханом! А самый, может, и небольшой, но умный авантюра, когда мой брат Тофик просит за пучок две тысячи, а я рядом - полторы. Берут у меня, хорошо берут! Потом Тофика зелень тихо-тихо перекладываем ко мне, пока все не продадим. Рашид этим простодушным своим рассказом, конечно, всех нас положил на лопатки. И не потому даже, что любителю никогда не победить профессионала, а по той простой причине, что он не старался ответить остроумно, а рассказал все - как есть. Чистую правду. Впрочем, друзья, позвонившие мне в тот день, чтобы поздравить меня с тем, что я попал в такую замечательную компанию, мой ответ тоже хвалили. За краткость, которая, как известно, сестра таланта. Ну, и за остроумие тоже. Между тем я - совсем как Рашид - даже и не думал острить. Я, как и он, сказал чистую правду. То, что в 1946 году я решил стать профессиональным литератором, было даже не авантюрой. Это было чистейшей воды безумием. Не могу не вспомнить тут прямо относящийся к этой теме рассказ моего друга Шурика Воронеля. См. Воронель Александр У меня характер не такой крутой, как у Шурика. В "профессиональные революционеры" я никогда не лез. Но, как сказал однажды Асеев Маяковскому, "в строчках я, кажется, редко солгу". А это тоже было опасно. Не меньше, чем в XIX веке выходить на Сенатскую площадь. К сожалению (а может, к счастью?), мне в моей юности не повстречался полковник, который предупредил бы меня - или моих родителей, - куда может меня привести так опрометчиво выбранная мною жизненная стезя. Впрочем, будь я хоть немного поумнее (или повзрослее), я мог бы и сам об этом догадаться. Едва я, вчерашний школьник, робко переступил порог Литературного института, в котором мне предстояло учиться пять лет, как жизнь тотчас же преподала мне свой первый урок. Урок был весьма внушительный. В первый же день всех нас - студентов и преподавателей, желторотых первокурсников и начинающих лысеть аспирантов - согнали в актовый зал на торжественное собрание. Оно было посвящено только что грянувшему - как гром среди ясного неба - постановлению ЦК "О журналах "Звезда" и "Ленинград"" .
В зале царила удушливая атмосфера погрома. От слов, летевших в зал из президиума - всех этих жутких, пахнущих тюрьмой и лагерем слов - "бдительность", "безыдейность", "литературный подонок" (про Зощенко ), "полумонахиня, полублудница" (про Ахматову ) - меня должно было бросать то в жар, то в холод. Но, опьяненный своим первым жизненным успехом (меня ведь приняли в ТАКОЙ институт, и приняли БЕЗУСЛОВНО!), я воспринимал все это примерно так же, как зощенковская жена отнеслась к смерти любимого мужа: "А, думает, ерунда!". Глупенькая птичка сделала свой первый шаг по тропинке бедствий. Но это общеинститутское собрание было мероприятием официальным. Его можно было понять как некий неизбежный, но все-таки чисто формальный поклон в сторону государственной литературной политики. Поклонились, перекрестились, отбарабанили все полагающиеся слова и лозунги, и - жизнь возвращается на круги своя. Живем дальше! Жизнь, однако, - на сей раз уже не общегосударственная, а наша, локальная, институтская жизнь, - не замедлила вскоре преподать мне свой второй урок. Это был "Вечер одного стихотворения" . Такие вечера, как мне объяснили, тут устраивали постоянно. Это была давняя институтская традиция. В каждом таком вечере обычно принимали участие все институтские поэты. А их у нас была - тьма. И каждый подымался на кафедру - а может, правильнее сказать на трибуну - и читал какое-нибудь одно свое стихотворение. Костя Левин на трибуну не поднялся. Он встал с нею рядом. Все наши ребята-фронтовики ходили тогда еще в стареньких гимнастерках, в потертых своих офицерских кителях. Но Костя был в штатском: в хорошо выглаженных серых брюках, в таком же аккуратном сером пиджаке.
- Нас хоронила артиллерия, - негромко сказал он. И в зале сразу стало очень тихо. Это было название. Все стихотворение я, конечно, не запомнил. Но некоторые строки и сейчас, полвека спустя, помню дословно, словно услышал их только вчера:
Она выламывалась жерлами,
Но мы не верили ей дружно
Всеми обрубленными нервами
В натруженных руках медслужбы.
Мы доверяли только морфию,
По самой крайней мере - брому.
А те из нас, что были мертвыми, -
Земле, и никому другому.
Стихи эти ошеломили меня. Они резко выделялись на фоне всех других, читавшихся в тот вечер. Но не столько этими "батальными" картинами, сколько тем, что последовало за ними:
Тут всё еще ползут, минируют
И принимают контрудары.
А там - уже иллюминируют,
Набрасывают мемуары.
И там, вдали от зоны гибельной,
Циклюют и вощат паркеты.
Большой театр квадригой вздыбленной
Следит салютную ракету.
И там, по мановенью Файеров,
Взлетают стаи Лепешинских,
И фары плавят плечи фраеров
И шубки женские в пушинках.
Особенно резко впечатались в память строки об одном из тех, кого "хоронила артиллерия", случайно выжившем и явившемся из своего фронтового ада в эту сверкающую салютами, праздничную Москву:
Кому-то он мешал в троллейбусе
Искусственной ногой своею. Боже! Что тут началось!
Приговор был вынесен сразу: "Противопоставление фронта тылу!". Противопоставление, понятное дело, совершенно недопустимое и даже кощунственное. Костю за это стихотворение топтали так долго и с таким садистским сладострастием, что в конце концов переломали-таки ему спинной хребет. Со стихами он "завязал". (Так, во всяком случае, отвечал на не слишком деликатные вопросы всех, кто интересовался его новыми творческими достижениями.) С грехом пополам закончив институт, он стал литконсультантом. Так литконсультантом и прожил всю свою жизнь, ни разу даже не попытавшись опубликовать хоть одно какое-нибудь свое стихотворение. Долго и мучительно болел. Перенес тяжелую операцию. И - умер. В 1988 году стараниями друзей удалось собрать и издать крохотную книжицу его стихотворений. Но она промелькнула как-то незаметно. Хотя стихотворение "Нас хоронила артиллерия" там тоже было, оно даже открывало книгу, но и оно как-то потускнело, поблекло. Словно печатный станок, облизав его свинцовым своим языком, лишил его былого магнетизма. На самом деле виноват был, конечно, не печатный станок. Все объяснялось куда как проще: замордованный автор долго мучил, терзал это свое создание. Что-то там в нем менял, переделывал, дописывал. (Под печатной редакцией стоят две даты: 1946, 1981.) В результате этой "доработки" - родилась, например, такая - заключающая стихотворение - строфа, в которой поэт сообщает нам о мыслях своего героя-фронтовика, пришедшего к Кремлевской стене:
И знал солдат, равны для Родины
Те, что заглотаны войною,
И те, что тут лежат, схоронены
В самой стене и под стеною.
Очевидно, чтобы уже ни малейших сомнений не оставалось у читателя насчет того, что фронт и тыл в той великой войне были едины. Рассказывая про Костю, я опять нарушил последовательность повествования, заглянул в эпилог истории, начавшейся полвека назад. Но короткое начало этой истории не было ее прологом. Оно вобрало в себя весь ее сюжет - с завязкой, кульминацией и развязкой. По существу, все не только началось, но и кончилось в тот самый вечер. Это был СУД ЛИНЧА, завершившийся убийством поэта. И убийство это происходило НА МОИХ ГЛАЗАХ. Казалось бы, уж это-то должно было хоть чему-то меня научить! Нет, не научило. Так уж устроена человеческая психика, что когда на твоих глазах порют - или даже убивают - кого-то другого, ты наивно веришь, что тебя это не касается, что авось пронесет, с тобой все будет не так, иначе. Учиться, как видно, мы можем только на своей, а не на чужой заднице. И пока жареный петух не клюнет тебя как следует своим стальным клювом! В молодости не веришь даже в то, что когда-нибудь умрешь. Знаешь это, так сказать, теоретически. Но - как замечательно выразился один поэт - "не верит тело". Я знал поименно десятки литераторов, которые канули в бездну , исчезли. Их имена вычеркнули из каталогов библиотек. А их самих - из жизни. Но я почему-то был уверен, что меня это не коснется. Умом понимал, в какое пекло лезу. Но в то, что и я могу пропасть, как они, - не верил. Не верило тело. А жизнь меж тем уже готовила для меня свой третий урок. На этот раз жареный петух нацелил свой стальной клюв прямо и непосредственно в мою задницу. Но птичка продолжала весело бежать по той же тропинке, ни о чем не подозревая, навстречу уже изготовившемуся для атаки этому самому жареному петуху. 5 Висевший на мне зачет я вскоре пересдал, и наступила наконец блаженная, каждому учившемуся человеку - что школьнику, что студенту - знакомая послеэкзаменационная легкость. Благополучное окончание первой в нашей жизни студенческой сессии наша четверка решила отметить. Четверка - Бондарев , Бакланов , Поженян и я - сбилась с того самого, первого нашего досрочного экзамена на дому у профессора Шамбинаго . Одновременно с нашей сложилась и другая четверка, в которую входили Солоухин , Тендряков , Шуртаков и Годенко . Сбившиеся в ту, вторую, четверку были люди солидные, прочно нацеленные на отличные, только отличные показатели. Сдав какой-нибудь экзамен на троечку, они тут же стремились его пересдать, стараясь повысить неприглядную оценку хотя бы на один балл. Это, впрочем, диктовалось суровой необходимостью: закончивших сессию с тройками лишали стипендии. Но Солоухину, а в особенности Шуртакову и Годенко, почему-то нужны были только пятерки. За профессором, поставившим им четверку, они ходили буквально по пятам и долго канючили, чтобы он принял экзамен вторично. Профессор, как правило, соглашался. Но отличник боевой и политической подготовки, упорно домогавшийся пересдачи, нередко и после второй попытки оставался со своей четверкой, а иногда даже и с тройкой. Для этих случаев у нас была припасена готовая ироническая формула: о неудачнике говорили, что он "подтвердил свои знания".
Готовились мы к экзаменам и зачетам в институте. Одну какую-нибудь пустовавшую аудиторию занимала наша четверка, а соседнюю - другая. Приустав от обилия знаний, не вмещавшихся в бедных наших головах, мы объявляли перекур. Иногда во время какого-нибудь очередного перекура отправлялись навестить соседей. Первое, что сразу бросалось нам в глаза, едва только отворяли мы дверь соседней аудитории и переступали ее порог, - была счастливая, белозубая - во весь рот! - улыбка Володи Тендрякова. Внезапный наш визит сулил ему по крайней мере десять минут блаженного отдыха от осточертевшей зубрежки, и он не в силах был скрыть свою детскую радость школьника, дождавшегося наконец звонка с урока на перемену. Особенно Володю угнетало "Введение в языкознание". После того как Александр Александрович Реформатский с безукоризненной математической точностью продемонстрировал нам, что слова "начало" и "конец" проистекают из одного корня, Володя окончательно отказался от всяких попыток проникнуть в дебри этой загадочной науки. Непростые отношения сложились у него и с диаматом. Однажды, помню, профессор Шестаков , о котором я уже рассказывал, поручил ему сделать на семинаре по диамату и истмату, которые он вел, какой-то доклад. Он долго объяснял Володе, с какой стороны надо браться за выбранную тему, диктовал список литературы, которую необходимо изучить и законспектировать, подробно отмечал страницы, на которые следует обратить особое внимание. И вдруг взгляд его поймал выражение Володиного лица, и что-то в этом выражении прервало и резко изменило ход его философской мысли.
- Только у меня к вам будет одна просьба, - подняв указательный палец, проникновенно обратился он к будущему докладчику. - Вы, пожалуйста, придите! И тут мы увидели, что профессор Шестаков вовсе не так глуп, как это нам казалось. А иначе разве сумел бы он так точно угадать гениальную мысль, вдруг осенившую Тендряка: просто-напросто взять, да и не явиться на семинар в день, назначенный для его доклада. Чтобы угадать это гениально простое и далеко не стандартное решение, да еще в тот самый миг, когда оно пришло потенциальному докладчику в голову, - согласитесь, надо было быть очень даже проницательным человеком. Да, философом наш профессор Шестаков был никудышным. Но психологом он оказался весьма недюжинным. А впрочем, может быть, - и даже скорее всего! - Володя Тендряков был не первым в его жизни студентом, которому в сходной ситуации пришло в голову такое же радикальное и такое же нестандартное решение. Сейчас я уже не помню, чем там закончилась у Тендряка вся эта история с докладом. Но, наверно, все обошлось, потому что все экзамены и зачеты и он, и Солоухин, и Годенко с Шуртаковым, как и мы, сдали нормально и тоже собирались как-то там отмечать благополучное окончание сессии. А наша четверка решила отметить это событие с размахом. Мы договорились, что, получив очередную стипендию, скинемся по двести рублей (примерно столько нам ежемесячно и полагалось) и хорошо - как следует - посидим на эти деньги в дорогом ресторане. Гриша Бакланов , когда принималось это решение, погрустнел. В отличие от всех нас, у него родителей не было, он жил у тетки и всю свою стипендию отдавал ей. Мы, естественно, сказали ему, что это все ерунда: чтобы хорошо посидеть, нам и шестисот рублей вполне хватит. Но на это щепетильный Гриша пойти не мог, и вся наша прекрасная затея чуть было не лопнула. В конце концов, однако, дело с Гришиной теткой как-то уладилось, и ресторанная наша гулянка все-таки состоялась. Наметили мы для нее ресторан "Астория" ,
Ссылки: