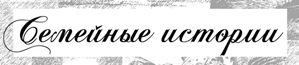 |
Б. Сарнов: "Многолетний страх" и реакция на "ПУТЧ" 1991 года
19 августа 1991 года я встретил в Малеевке - писательском Доме творчества, ставшем за последние тридцать лет чуть ли не вторым моим домом. В тот день путевка моя кончалась, и я собирался в Москву, где меня ждали какие-то дела. Жена с маленьким внуком оставалась еще на один срок, а я уезжал. Вещи были собраны с вечера, машина была заказана на десять часов утра: я собирался ехать сразу после завтрака. Обычно я просыпаюсь часов в восемь. Но в то утро какая- то сила подняла меня часа на два раньше. Поняв, что уже не засну, быстро натянул джинсы, рубашку и осторожно, на цыпочках, чтобы не разбудить жену и внука, вышел в коридор. И сразу же наткнулся на Юру Давыдова , который поманил меня пальцем и шепотом - хотя в коридоре мы были одни и никто нас не мог слышать - спросил:
- Уже знаешь? И только тут я увидел, что на нем, как говорится, нет лица. Он быстро пересказал мне все, что только что услышал по радио, и я сразу почувствовал, как старый, давно забытый страх шевельнулся под ложечкой и быстро стал заполнять всю мою грудную клетку. Но я бодрился. Сказал Юре, что это не надолго. От силы на полгода. Может быть, на год.
- Нет,- покачал головой Юра.- Это конец. Вторым человеком, которого я увидел в то утро, был Серго Ломинадзе . Он тоже был совершенно убит новостью и на мои успокоительные речи реагировал с раздражением.
- Их никто не поддержит,- вяло, сам не слишком в это веря, пытался успокоить его я.
- Еще как поддержат! - ярился он. И повторил - слово в слово - то, что я уже слышал от Юры Давыдова:
- Нет, это - конец. Я все еще пытался бодриться, но под ложечкой у меня посасывало. Старый страх давал себя знать. Не зная, куда себя девать, я поплелся в столовую. Мой сосед по столику - моложавый, с коротким седым ежиком, писатель-фантаст в джинсовой куртке - удивился:
- Что это вы так рано сегодня?
- А вы, я вижу, ничего не знаете,- сказал я.- У нас государственный переворот. В двух словах я пересказал невеселую новость, ожидая услышать в ответ приблизительно то же, что уже слыхал от Серго и от Юры. Но писатель- фантаст отреагировал на мое сообщение иначе.
- Бенедикт Михайлович! - сказал он, пожав плечами.- Ведь это агония! Агония-то агония,- подумал я,- но сколько она продлится? И кому из нас доведется ее пережить? Юра и Серго все-таки уже заразили меня своим пессимизмом. Когда я садился в машину, Юра отвел мою жену в сторону и довольно внушительно посоветовал ей взять внука и ехать со мною в Москву.
- В такие минуты,- сказал он,- близкие люди не должны разлучаться. Но жена в ответ лишь беспечно махнула рукой. Всю дорогу я размышлял о том, как по-разному реагировали на события Юра, Серго, я, мой сосед по столику и моя жена. Схема выстраивалась довольно ясная. Юра был старше меня. И он был старый зэк, лагерник. Серго был одного со мною возраста, но он - сын того самого Ломинадзе , который так досадил Сталину, что тот даже после его насильственной смерти сводил с ним свои старые счеты, презрительно помянув в "Кратком курсе" каких-то "левацких уродов типа Шацкина и Ломинадзе". А сам Серго тоже с пятнадцати лет мыкался по сталинским лагерям. Немудрено, что я глядел в будущее не так мрачно, как они. Писатель-фантаст был человек другого поколения: лет на пятнадцать, а может, даже и на двадцать моложе меня. Этим и объяснялась его реакция. Стройность моей схемы слегка нарушала моя жена. Но ее мнение в расчет можно было не принимать. Ей важно было только одно: чтобы ребенок был на свежем воздухе. А там - хоть трава не расти! По Минскому шоссе навстречу нам двигались танки. Неужели уходят? Нет, такая же длинная танковая колонна двигалась в противоположном направлении, к Москве. Я снова приуныл. Но подъехав к Белому дому, увидал опрокинутый троллейбус, баррикаду, и опять слегка повеселел. Долгими кружными путями нам с моим таксистом все-таки удалось добраться до моего дома. У подъезда меня встречал сын. Легко прочитав на моем лице все, что я чувствовал, он, подхватив мой чемодан, успокоительно сказал:
- Папа, ну что ты переживаешь? Это же на три дня! Сын мой был примерно на столько же моложе писателя-фантаста, насколько фантаст был моложе меня. А наутро я узнал, что сын моего редактора, которому было семнадцать,- то есть он был моложе моего сына на те же пятнадцать лет,- вообще не стал обсуждать ситуацию, а просто созвонился со своими приятелями- сверстниками, и, не поддаваясь на уговоры родителей, они дружно пошли к Белому дому, где провели ночь - и весь следующий день, и всю следующую ночь - в ожидании штурма. Построенная мною схема обрела, таким образом, окончательную стройность. Я очень гордился этим своим самодельным социологическим исследованием, всем о нем рассказывал, но сам ему большого значения не придавал, понимая, что для серьезных выводов в моем распоряжении было все-таки слишком мало материала. Во всяком случае, я даже не вспомнил о нем, когда - несколько месяцев спустя - у меня произошла небольшая словесная стычка с Анатолием Рыбаковым . 19 августа "Независимая газета" обратилась к писателям, общественным деятелям и другим знаменитым людям нашей страны с просьбой ответить на вопрос: как они относятся к обращению ГКЧП ? Среди самых разных ответов был там напечатан и ответ Рыбакова, невнятный смысл которого сводился к тому, что ничего определенного по поводу случившегося он сказать не может, поскольку у него слишком мало информации. Перепалка наша началась совсем по другому поводу. Но в ходе ее я припомнил ему и этот - постыдный, на мой взгляд,- ответ.
- Семнадцатилетним мальчишкам,- в запальчивости сказал я,- хватило информации, чтобы понять, что происходит, а вам - с вашим-то жизненным опытом - было ее недостаточно? Насчет информации и понимания сути происходящего я был, конечно, прав. А вот насчет жизненного опыта? Ведь именно жизненный опыт Анатолия Наумовича подсказал ему тот робкий, осторожный его ответ. Прекрасно он понимал, что происходит! И наверняка сумел бы найти для ответа четкие и ясные слова. Но ведь не он отвечал на тот вопрос корреспондента: отвечал выплеснувшийся наружу, давний, еще со времен первой его ссылки, с 1934 года дремавший на дне его сознания страх. Нет, не надо было мне попрекать Анатолия Наумовича тем уклончивым его ответом. Надо было вспомнить про мой социологический эксперимент, про разницу поколений и биографий. Не мешало бы вспомнить при этом и такой примечательный разговор, который вышел у меня однажды - где-то в середине семидесятых - с одним моим знакомым. Это был такой - не шибко известный - литературный критик: Владимир Яковлевич Барлас . Вообще-то он был геолог. Но, влюбленный в поэзию, бредивший стихами, он стал писать статьи о своих любимых поэтах, и постепенно это его хобби стало профессией. Его даже приняли в Союз писателей. Время от времени мы с ним встречались и разговаривали. Иногда спорили. Бывало, часами. И вот однажды, когда очередная такая наша поэтическая встреча сильно затянулась, я хватился, что меня давно уже ждут друзья.
- Да, мне тоже уже пора,- сказал Барлас, озабоченно взглянув на часы. Мы вместе вышли, вместе спустились в метро, вместе доехали от моего "Аэропорта", Маяковской, продолжая какой-то наш бесконечный, не сегодня начавшийся спор. Выйдя из метро, я спросил:
- А вы куда? Спросил в том смысле, что если нам и дальше по пути, мы, может быть, сможем перекинуться еще парочкой-другой аргументов в нашем затянувшемся споре. Барлас ответил:
-Я - в Союз. Там сегодня закрытие сети партийного просвещения. Последнее занятие. Ответ этот меня изумил. Среди моих знакомых не было, кажется, ни одного, кто ходил бы на эти казенные лекции и семинары. Но Владимир Яковлевич Барлас, пожалуй, даже менее, чем кто-либо другой из всех моих друзей и приятелей, был похож на человека, которого можно было бы заманить "под своды таких богаделен".
- Вы в самом деле ходите на эти занятия? не удержался я. Он сухо ответил:
- Хожу.
- Зачем? спросил я, искренне желая понять эту загадку. Черт его знает! Может там, на этих партийных семинарах, и впрямь бывает что-то интересное? А может, ему интересны члены Союза писателей, посещающие эти занятия? Для меня это привычная и малопривлекательная, а для него все-таки совсем новая, незнакомая ему среда. Но ответ Барласа на мой бестактный вопрос лежал, как оказалось, совсем в иной плоскости.
- Бенедикт Михайлович,- тихо сказал он.- Сколько вам было лет в 37-м году? Я сказал:
- Десять.
- А мне - двадцать! Мы молча пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Я - по своим делам, уж не помню сейчас куда. А он - в Союз писателей, на последнее в том сезоне занятие сети партийного просвещения. По правде говоря, показная законопослушность Владимира Яковлевича показалась мне тогда слегка чрезмерной. Но, в конце концов, даже у каждого металла - своя температура плавления. Сам я на занятия сети партийного просвещения давно уже не ходил - аж со времен моей комсомольской юности. (Тогда - под давлением страха, сублимировавшегося в любовь,- окончил даже Университет марксизма- ленинизма.) Но другими казенными мероприятиями, взывающими к моей законопослушности, не пренебрегал. Однажды, например,- было это в те же семидесятые,- пришел на мое имя из ЦДЛ (Центрального дома литераторов) пригласительный билет не совсем обычного вида. От других цэдээловских билетов, которые почта приносила мне тогда чуть ли не ежедневно, он отличался даже на ощупь. Напечатан был на какой-то особенно плотной бумаге, глянцевитой плотностью своей напоминающей даже не картон, а целлулоид или, еще точнее - слоновую кость. И сам текст приглашения был выполнен не обычным типографским шрифтом, а стилизован под этакую изысканную каллиграфическую скоропись с разными изящными росчерками и завитушками. Ко всем этим странностям была там еще одна - совсем уж загадочная: в левом верхнем углу тем же каллиграфическим почерком меня уведомляли, что билет этот - персональный и ни в коем случае не подлежит передаче в другие руки. А в правом верхнем углу красовался вычурный вензель, сплетенный из трех букв, образующих знакомую зловещую аббревиатуру: КГБ. Короче говоря, мне была оказана редкая честь. Я приглашался на встречу с ответственными (или руководящими, не помню точно, как именно это было сформулировано в том билете) работниками Комитета государственной безопасности. И вот я сижу в Малом зале ЦДЛ в числе сотни особо избранных, особо доверенных (за что только мне такая честь?) московских писателей. Со всех сторон меня окружают знаменитости. Вот - Сергей Михалков . А неподалеку от него - Василий Ардаматский , автор знаменитого фельетона "Пиня из Жмеринки". Это - слева от меня. А справа - Аркадий Васильев , о котором было сказано, что он "спланировал" в литературу из органов". Вон и другие корифеи, чья многолетняя связь с "нашими славными органами" тоже давно и хорошо всем известна. На маленьком просцениуме - два хорошо одетых, вполне благопристойно выглядящих господина. Один худощавый, даже тщедушный, в очках. Другой - плотный, упитанный, без очков. Тем не менее они чем-то неуловимо похожи друг на друга. Начинает тщедушный. Он говорит об участившихся идеологических диверсиях. Враг коварен и хитер. ЦРУ не дремлет. Но они, работники наших славных органов, тоже не лыком шиты. Тщедушный подробно рассказывает, как вовремя была разгадана и предотвращена одна такая спланированная в ЦРУ идеологическая диверсия. В Москву прибыл на гастроли знаменитый американский джаз Бенни Гудмана . В столице возник по этому поводу нездоровый ажиотаж. Ответственные работники КГБ, получив об этом соответствующие сигналы, поняли, что дело пахнет крупной провокацией. (В переводе на нормальный человеческий язык это означало, что на концертах упомянутого джаза некоторые не в меру впечатлительные зрители будут слишком уж бурно аплодировать, демонстрируя тем самым иностранцам свое некритическое, а может быть, даже и восторженное отношение к американскому образу жизни.) Обсудив создавшуюся непростую ситуацию (не отменять же уже объявленнные гастроли!), наши славные чекисты разработали такой хитроумный план. В городские кассы - решили они - поступит лишь малая часть билетов. Основная же их часть будет распространяться по учреждениям и предприятиям среди особо проверенных товарищей - коммунистов и комсомольцев. Замечательный план этот был приведен в исполнение. Проверенные коммунисты и комсомольцы сидели на концертах Бенни Гудмана с каменными лицами. Вражеская провокация была сорвана. Рассказав еще несколько таких же историй, тщедушный уступил площадку упитанному. Тот, показалось мне, был совсем уж неотесанный. Родной речью владел туго. Он объявил, что тоже будет говорить об идеологических диверсиях, и я уже мысленно хихикал, предвкушая, как буду пересказывать друзьям их идиотские истории. Но скоро мне стало не до смеха. Упитанный повел речь о том, что отдельные идеологические диверсанты проникли и в писательскую среду. Эту тему он мусолил довольно долго, как-то блудливо подмигивая и время от времени довольно прямо давая понять, что сказанное им относится и к кое-кому из сидящих в этом зале. Мне даже показалось, что несколько раз при этом он взглянул на меня. Под этими его взглядами я ежился, хотя никаких идеологических диверсий вроде бы не совершал. Но ведь и устроители концерта Бенни Гудмана тоже не совершали никаких идеологических диверсий. И не зря же, в конце концов, на эту закрытую (билет без права передачи!) встречу вместе с Михалковым, Ардаматским и Аркадием Васильевым они позвали меня и нескольких других, как это тогда называлось, "подписантов". Я сидел как на иголках, ожидая, что вот-вот на весь зал прозвучит моя фамилия. Но до меня и других грешников дело не дошло. Сообщая об идеологических диверсиях отдельных идейно незрелых писателей, оратор никаких фамилий называть не стал, так и ограничился всеми этими многозначительными подмигиваниями и намеками. Поиграв еще немного со специально приглашенными для этой игры мышами, два вальяжных кота, очень собою довольные, покинули зал заседания. А мышь (я имею в виду себя), облегченно вздохнув (слава тебе, Господи, пронесло!), поехала на метро домой, радуясь, что отделалась легким испугом. Из своего - сравнительно не такого уж большого - опыта общения с сотрудниками нашего "Министерства Любви" я вынес впечатление, что им очень нравилось ощущать себя кошками, а всех своих подопечных - мышами. Во всяком случае, они не упускали ни малейшей возможности подержать какую-нибудь несчастную мышь в зубах и слегка поиграть с нею, даже когда в этом не было не только ни малейшей государственной надобности, но и вообще никакого смысла. Однажды (это было в те же "застойные" семидесятые) сидели мы у меня дома с тогдашним моим дружком и соавтором Стасиком Рассадиным и сочиняли очередную радиопьесу для постоянного нашего цикла "В стране литературных героев". Работали мы тогда легко и весело, поочередно садясь за машинку, переругиваясь и радостно смеясь какой-нибудь особенно, как нам казалось, удачной реплике. Жена старалась нам не мешать, но отчаянно мешал мой фокстерьер Булька: он царапался в дверь моего кабинета, уморительно вставая, на задние лапы и жалобно глядя на нас сквозь стекло. Иногда даже нетерпеливо взлаивал. Он был прав: его давно уже пора было выгуливать, а я, увлеченный творческим процессом, совсем про это забыл.
- Стасик, посиди немного за машинкой,- сказал я соавтору.- Он все равно не даст нам работать, пока я его не выведу. Через двадцать минут, вернувшись с Булькой домой, я наклонился, чтобы снять с него поводок. И тут дверь моего кабинета слегка приотворилась, и оттуда высунулась физиономия моего соавтора. По выражению его лица я сразу понял, что за время недолгого моего отсутствия что-то произошло. И что-то, судя по всему, очень нехорошее. Предчувствие меня не обмануло. Таинственно поманив меня пальцем, Стасик шепнул:
- Тебя тут ждет небольшой стресс! Сердце у меня упало. Это было в то самое время, когда жена моя требовала, чтобы мы забрали сына из школы и отдали его на шинный завод. Из школы мы его, как я уже рассказывал, так и не забрали и на шинный завод не отдали. И он с каждым днем все больше и больше отбивался от рук. Учебу совсем забросил, жил в свое удовольствие, возвращался домой после какого-нибудь очередного дружеского сабантуя иногда далеко за полночь. Я относился к этому более или менее снисходительно, полагая, что рано или поздно он перебесится, и процесс его взросления войдет в нормальные берега. Но жена просто сходила с ума. Она вела с ним непрерывную холодную войну, то и дело переходящую в горячую. Горячая форма военных действий заключалась в том, что она выгоняла его из дому. Он покорно это сносил и уходил ночевать к бабушке, которая всегда готова была предоставить ему политическое убежище. Проходило два, три, иногда четыре дня. Возвращаться домой он не собирался: жизнь у бабушки, которую, в отличие от свирепой матери, он ничуть не боялся и которой помыкал как хотел, устраивала его гораздо больше, чем жизнь дома. Но такая чрезвычайная ситуация никак не устраивала мою жену. Она взывала ко мне - в довольно стандартной, я бы даже сказал, тривиальной форме ("Разве ты отец? Настоящий отец этого бы не допустил!"). И в конце концов, не выдержав, я начинал очередной тур челночной дипломатии по методу Генри Киссинджера и старался, не слишком поступаясь высшими педагогическими принципами и не растеряв окончательно свой родительский авторитет, все-таки уговорить нашего смутьяна вернуться в лоно семьи. Сто раз я клялся жене, что если она еще хоть раз посмеет выгнать мальчика из дому, на
Ссылки: