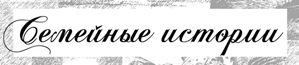 |
"Плюрализм в одной голове"
В начале 60-х мой друг Эмка Мандель (Н. Коржавин) познакомил меня с замечательной женщиной - Ольгой Львовной Слиозберг . Она была лет на двадцать нас старше, отбыла к тому времени свои семнадцать лет тюрьмы, лагеря и ссылки (там, в ссылке, в Караганде, они с Эмкой и подружились). Тюремные и лагерные ее рассказы произвели на меня тогда сильное впечатление. Особенно один из них. В тюрьме она сблизилась с одной совсем простой, неграмотной женщиной, обвинявшейся, естественно, в троцкизме. И вот однажды эта женщина обратилась к ней за советом. Дошло до нее с воли письмо от дочки. Дочке исполнилось пятнадцать лет, и ей предстояло вступать в комсомол. И она просила мать, чтобы та написала ей: правда ли, что она троцкистка, что злоумышляла против нашей страны, против товарища Сталина. Если правда, она проклянет ее и вступит в комсомол. Если же мать честно напишет ей, что ни в чем не виновата, то вступать в комсомол она ни за что не станет. Девочка признавалась, что ей, конечно, очень страшно думать, что при таком повороте она сразу станет изгоем. (Выражала она это, конечно, другими словами, но мысль была именно такая.) И все-таки, - писала она матери, - лучше бы мне узнать, что никакая ты не троцкистка, не враг народа. Получив это письмо, мать девочки проревела всю ночь. А наутро попросила Ольгу Львовну написать дочери от ее имени, что все, в чем ее обвиняют, - правда. "Так прямо и напиши, - сказала она. - Вступай, доченька, с чистым сердцем вступай. У тебя перед комсомолом никакой вины нет, а за мать ты не ответчица. Сам товарищ Сталин сказал, что сын за отца не отвечает". Ольга Львовна изо всех сил старалась уговорить ее не возводить на себя напраслину, не признаваться в несуществующей вине. Но та твердо стояла на своем.
- Ей жить, - сказала она. - Легкое ли это дело - девчонке знать, что мать сидит ни за что? Нет, пусть уж лучше думает, что я троцкистка. Эта история особенно сильно меня зацепила еще и потому, что как раз в то время я задумал и даже начал уже писать книгу о Гайдаре . И мне подумалось, что Гайдар повел себя совершенно так же, как мать этой девочки. Он - так же как она - сознательно решил не говорить нам в своих книгах всю известную ему правду о той жизни, которой жила страна. И даже лгать. Но это была ложь во спасение. Совсем как эта оклеветавшая себя простая женщина, он хотел заслонить нас, защитить от знания, которое могло бы расшатать, расколоть светлый мир нашего детства. А может быть, даже и превратить нас во врагов. Я тогда - сразу же - сказал Ольге Львовне об этом. И спросил у нее, не позволит ли она мне использовать в моей книге о Гайдаре этот ее рассказ. Она сказала:
- Нет, я бы не хотела хоть каким-то боком в этом участвовать. Я люблю Гайдара, и мне больно, что вы хотите его разоблачать. Разоблачать Гайдара я, конечно, не собирался: я хотел его понять. Отчасти даже оправдать. Но это уже совсем другая тема. А историю, рассказанную мне Ольгой Львовной, я вспомнил сейчас потому, что она проливает очень яркий свет на ту искаженную, уродливую реальность, в которой складывалось, формировалось мое детское сознание. И девочка, написавшая матери в тюрьму это письмо, и мать, ответившая ей, были - нормальные люди. Обе они понимали, или лучше сказать, чувствовали, что самое страшное для нормальной человеческой психики - это расколотое, раздвоенное сознание. То, что впоследствии Оруэлл в своей знаменитой книге назовет двоемыслием . Эмка Мандель однажды блестяще сформулировал это короткой, экспромтом родившейся в каком-то споре репликой: "Плюрализм в одной голове - это шизофрения". Это была не острота, не просто звонкая фраза или изящный фехтовальный прием. Это был точный медицинский диагноз. Увы, этот диагноз касался нас всех. У всех у нас - во всяком случае, у большинства из нас - было именно вот такое "шизофреническое", двойное сознание. Не избежал, кстати говоря, "плюрализма в одной голове" и сам автор этой блестящей формулы. Незаурядный ум, а может быть, не ум, а мудрость поэтического дара открыла ему глаза гораздо раньше, чем мне. То, что я смутно чувствовал, о чем лишь догадывался, он не только осознал, но и очень рано сформулировал:
Гуляли, целовались, жили-были.
А между тем, гнусавя и рыча,
Шли в ночь закрытые автомобили
И дворников будили по ночам.
Давил на кнопку, не стесняясь, палец,
И вдруг по нервам прыгала волна.
Звонок урчал - И люди просыпались,
И вскрикивали женщины со сна...
А южный ветер навевает смелость.
Я шел, бродил и не писал дневник.
А в голове крутилось и вертелось
От множества революционных книг.
И я готов был встать за это грудью,
И я поверить не умел никак,
Когда насквозь неискренние люди.
Нам говорили речи о врагах.
Романтика, растоптанная ими,
Знамена запыленные - кругом.
И я бродил в акациях, как в дыме.
И мне тогда хотелось быть врагом. Желание "быть врагом" для человека, которому так ясно открылась истина о происходящем вокруг, было естественным. Никакой иной реакции тут, казалось бы, не могло и быть. Если, как сформулировал это для себя в шестнадцать лет мой сверстник Гена Файбусович, "у нас в стране - фашизм", - ничего другого нам не оставалось. Если и не стать врагом в полном смысле этого слова, со всеми вытекающими последствиями, - так по крайней мере осознать, что вся эта окружающая тебя советская реальность, с этими насквозь неискренними людьми, твердящими со всех трибун о мнимых, несуществующих врагах, в самой основе своей тебе враждебна. Но автор процитированных стихов не в силах сделать это:
Иначе писать не могу и не стану я.
Но только скажу, что несчастная мать.
А может, пойти и поднять восстание?
Но против кого его поднимать?
Вот он - вопрос вопросов.
Против кого поднимать восстание?
Против единственной в мире страны победившего социализма?
Нет, это невозможно! И сразу овладевает им сознание своего (нашего общего) гамлетовского бессилия:
Можем строчки нанизывать
Посложнее, попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь.
Мы не будем увенчаны,
И в кибитках, снегами
Настоящие женщины
Не поедут за нами. Не потому мы не сможем (не захотим) поднять восстание, что мы ничтожнее, трусливее тех, кто сто двадцать лет тому назад вышли на Сенатскую площадь, а совсем по другой причине. Потому что тот мир, против которого надо было бы поднять восстание, не только не враждебен, но даже и не чужд нам. Нет, он не может, не в силах ощутить себя врагом этого мира, кровинкой которого он привык себя ощущать. И тогда остается только один выход: оправдать всю его неправедную, кровавую жестокость. И даже не только оправдать, но и - воспеть ее, восславить. Как сказано об этом в знаменитой книге Джорджа Оруэлла - полюбить Старшего Брата:
Я все на свете видел наизнанку
И путался в московских тупиках.
А между тем стояло на Лубянке
Готическое здание Чека.
Оно стояло и на мир смотрело,
Храня свои суровые черты.
О, сколько в нем подписано расстрелов
Во имя человеческой мечты?
И в наших днях, лавирующих, веских,
Петляющих, - где вера нелегка,
Оно осталось полюсом советским -
Готическое здание Чека.
И если с ног прошедшего останки
Меня сшибут, - то на одних руках
Я приползу на красную Лубянку
И отыщу там здание Чека. Приползет, очевидно, чтобы самодонестись. Чтобы сказать, как иронически говорил о себе Юрий Карлович Олеша (но, в отличие от него, без тени иронии): - Я - не наш! Это была уже самая настоящая истерика. Но истерика как раз и говорила яснее ясного, что веру, которую так не хотелось ему утерять, спасти можно было только вот таким, сверхъестественным, нечеловеческим усилием. Первопричиной этой истерики было естественное для нормального, психически здорового человека стремление убежать от шизофрении.
Ссылки: