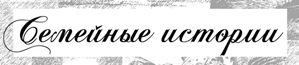 |
"Ветер свободы" на подоконниках Литинститута
В институте добрейший Василий Семенович Сидорин восстановил меня раньше, еще до решения секретариата ЦК. Вряд ли он сделал это на собственный страх и риск. Может быть, свою роль тут сыграла "новомирская" моя статейка, а может, еще что- нибудь, о чем мне знать не полагалось. На всякий случай, правда, сперва (пока, как он доверительно мне шепнул) меня оформили заочником. Это значило, что пока меня не переведут из чистилища в рай, я не буду получать стипендию. Во всем же остальном это никакой роли не играло, и я чувствовал себя так, словно я уже в раю. На лекции я ходил вместе со всеми, на семинары тоже. Но главное в нашем институте (так, во всяком случае, мне тогда казалось) происходило не на лекциях и даже не на семинарах. Из всей моей литинститутской жизни ярче всего мне запомнились лестница и подоконник. На этом подоконнике, возле этого подоконника шла главная наша жизнь. Если я и научился чему-нибудь в Литинституте, так именно вот здесь, на этом подоконнике. Конечно, и на лекциях я узнавал много важного и интересного. Да и могло ли быть иначе, если лекции, как я уже говорил, нам читали Бонди, Реформатский, Асмус. Но все, что я узнал от них, я мог бы узнать, если бы учился и в другом каком-нибудь институте. Скажем, на филфаке МГУ. А вот то, что происходило у подоконника! Здесь читали стихи. Нет, даже не стихи: строки, строфы. Осколки, обрывки чьих-то стихов. Смысл (тем более контекст, из которого вырывались эти строки-осколки) был почти не важен. Важны были строки сами по себе. Их плоть (плотность). Строки пробовались на вкус: их повторяли, отчаянно воя, как это делают почти все поэты, воем стараясь заглушить не самые обязательные, не самые точные слова. Но как бы ни завывал очередной чтец, почему-то сразу было ясно, какие строки бездарны, а какие талантливы. Я думаю, что именно эти сборища возле подоконника сделали так, что я до сих пор ощущаю себя и своих друзей- литераторов, окончивших университет, людьми разных профессий. Для литератора, получившего нормальное филологическое (а не литинститутское - на подоконнике) образование, поэтический текст существует как некое смысловое единство. Проще говоря - как нечто целое. А мы сразу начинали постигать "материю песни, ее вещество" на клеточном, молекулярном уровне. Некоторые "молекулы" запомнились мне с того времени на всю жизнь:
Нас хоронила артиллерия!
Здесь прошелся загадки таинственный ноготь.
Вы наденете платье цвета
Черного бутылочного стекла.
И в кибитках, снегами
Настоящие женщины
Не поедут за нами!
От моря лжи до поля ржи
Дорога далека.
- А ваша муза площадная,
Тоской заемною мечтая
Родить участие в сердцах,
Подобна нищей развращенной,
Молящей лепты незаконной
С чужим ребенком на руках.
И всю ночь она рыдала,
Божий промысел кляла,
Руки белые ломала,
Косы черные рвала..
Я знаю, каждый за женщину платит.
Ничего, если пока
Тебя, вместо шика парижских платьев,
Одену в дым табака?
Это были строки очень разных поэтов. Старых и новых, знаменитых и незнаменитых, великих и никому, кроме нас, неведомых. Но здесь все они были равны: Пастернак, Маяковский, Катенин, Баратынский, Костя Левин, Коля Глазков. Строки классиков и корифеев точно так же пробовались "на зуб", как стихи наших товарищей. И восхищались ими тоже - как равными. Выходило как-то так, что им (классикам) должно быть даже лестно, что их старые, полстолетия, а то и столетие назад сочиненные строки выдерживают сравнение с живыми, только что рожденными - с пылу, с жару - строчками наших товарищей. Некоторые из никому, кроме нас, не известных строк, запомнившихся мне с тех времен, стали потом знаменитыми, вошли в однотомники и двухтомники. А иные так и остались навек безымянными. Например, вот эти:
На дороге столбовой
Умирает рядовой.
Он, дурак, лежит, рыдает
И не хочет умирать,
Потому что умирает,
Не успев повоевать.
Он, дурак, не понимает,
Что в такие времена
Счастлив тот, кто умирает,
Не увидев ни хрена. Или - вот эти:
Мой товарищ! В смертельной агонии
Не зови ты на помощь друзей.
Дай-ка лучше погрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
И не плачь ты от страха, как маленький.
Ты не ранен. Ты только убит.
Дай я лучше сниму с тебя валенки:
Мне еще воевать предстоит.
Солдат, греющий руки над теплой, дымящейся кровью убитого товарища? Какой неестественный, эстетский, пожалуй, даже кощунственный образ! Но мы были молоды, нам нравилось все резкое, необычное, ошеломляющее своей неожиданностью. А главное - в этих стихах была правда. Та жестокая, страшная правда о войне, которую мои товарищи, пришедшие в институт из армии, сами хлебнули вдоволь в своей фронтовой жизни и следов которой в печатавшихся тогда и официально расхваливавшихся стихотворных строчках было не отыскать. Говорили, что стихотворение это кто-то из фронтовиков нашел в планшете убитого лейтенанта. Ни имени, ни фамилии лейтенанта никто не знал - и теперь, мы были в этом уверены, уже никогда не узнает. Прошло полвека - всего-то!- и мы (лучше сказать - некоторые из нас: те, кто дожил) все-таки узнали и имя его, и фамилию. Передо мной - тоненькая книжечка. На белой, слегка пожелтевшей обложке крупными красными буквами выведено: "Стихи из планшета гвардии лейтенанта Иона Дегена ". Автором поразивших нас стихов и в самом деле был, значит, лейтенант. И был, как и рассказывали, кожаный офицерский планшет, в котором он хранил свои стихотворные записи. И вот сейчас, спустя полвека (в 1991-м) они вышли в свет крохотной отдельной книжечкой. Не у нас, правда, а в Израиле, куда на склоне лет занесло уцелевшего гвардии лейтенанта. А в то время, когда мы читали друг другу его фронтовые стихи, с ним, оказывается, случилось примерно то же, что с нашим литинститутским товарищем Костей Левиным .
Летом 45-го он прочел несколько своих стихотворений на каком-то вечере молодых поэтов-фронтовиков в ЦДЛ . И ему устроили там жестокий разнос. Обвинили (как у нас Костю) во всех смертных грехах: в клевете на Красную Армию, в призыве к мародерству, в оправдании трусости. И, точь-в-точь как у нашего Кости, надолго, можно даже сказать - навсегда отбили охоту к сочинению стихов. Читали мы там, у подоконника, стихи арестованного Манделя . И никому не приходило в голову, что это может быть опасно. (Впрочем, даже на каком-то общеинститутском собрании один из наших студентов-старшекурсников во всеуслышание, с трибуны объявил, что арест Манделя он считает ошибкой, потому что арестовали этого великого путаника как раз в то время, когда он стал поворачиваться лицом к советской власти.) Со смехом, но и с искренним восхищением читали ставшие потом знаменитыми, но тогда мало кому известные четверостишия Коли Глазкова :
Все говорят, что окна ТАСС
Моих стихов полезнее.
Полезен также унитаз,
Но это не поэзия.
С восторгом повторяли другое Колино четверостишие, сочиненное им в первый день войны:
Господи! Вступися за Советы!
Охрани страну от высших рас.
Потому что все твои заветы
Гитлер нарушает чаще нас.
И вот это:
Я на мир взираю из-под столика:
Век двадцатый, век необычайный!
Чем столетье интересней для историка,
Тем оно для современника печальней.
Иногда там, у подоконника, возникал и сам Коля. Объяснял, откуда взялась первая вроде бы никчемушная строка этого четверостишия. По пьянке поспорил он как-то с приятелем - сейчас уж не помню, о чем. По условиям спора проигравший должен был залезть под столик и, сидя там, выдать какой-нибудь новый - обязательно новый, только что родившийся,- поэтический текст. Коля проиграл и вот выполнил условия этого, как оказалось, весьма плодотворного спора. Появляясь у нас, Коля всякий раз приносил с собой очередную самодельную книжечку, на картонной обложке которой - внизу, где полагалось обозначать, какое издательство выпустило книгу,- было выведено: "Самсебяиздат". Или еще короче - "Самиздат" . (Вот кто изобрел это, ставшее потом знаменитым, слово.) А на задней стороне обложки этих его самодельных книжечек неизменно значилось: "Тираж - 1экз." Похваставшись очередной своей самиздатовской книжкой, Коля предлагал всем, кто отважится, померяться с ним силой. Но стального его рукопожатия не мог перебороть ни один из наших институтских силачей. Даже Поженян , который частенько тут же, у этого подоконника, давал желающим уроки бокса ("хук справа", "хук слева"). Поженян, кстати, кроме этих уроков бокса нередко демонстрировал новичкам - после не слишком долгих просьб и упрашиваний - свой коронный номер. Он читал стихотворение Блока (читал, кстати сказать, замечательно):
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века -
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь - начнешь опять сначала,
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
Прочитав, становился на руки и, стоя в такой необычной позе, читал то же стихотворение, но уже в обратном порядке от последней строки к первой:
Аптека, улица, фонарь.
Ночь, ледяная рябь канала -
И повторится все, как встарь:
Умрешь - начнешь опять сначала.
Все будет так. Исхода нет.
Живи еще хоть четверть века.
Бессмысленный и тусклый свет.
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Самым поразительным в этом эксперименте было то, что волшебное стихотворение Блока в перевернутом виде оставалось таким же чарующим. И - мало того!- не только весь эмоциональный настрой, но даже и смысл его при этом ничуть не менялся. Скажу даже больше: этот лихой Поженянов номер, пожалуй, даже усиливал трагизм блоковского стихотворения, так сказать, структурно обнажая и подтверждая главную его мысль: вертись хоть так, хоть этак, хоть становись с ног на голову - все равно. Жизнь - замкнутый круг. "Все будет так. Исхода нет". Здесь же, у подоконника, певали мы любимые наши институтские песни. Главную из них, наш институтский гимн , сочинил Владик Бахнов :
Есть в городе бульвар небезызвестный,
А на бульваре памятников два.
Быть по соседству с ними очень лестно.
Но наш Лицей имеет все права!
Пусть Тимирязев повернулся задом
И Пушкин прикрывает шляпой зад,-
Сыны Лицея будут только рады,
Что классики за ними не следят.
Знакомые дорожки и тропинки
И коридоров тесненький уют.
Здесь гении в изодранных ботинках
Высокое искусство создают.
До "Прогулок с Пушкиным" Андрея Синявского , вызвавших при своем появлении дружный вопль негодования - и у нас, и в эмиграции (там одна из рецензий на эту книгу называлась простенько, но мило: "Прогулки хама с Пушкиным"),- было еще ох как далеко! Но панибратское, фамильярное, амикошонское отношение к классику было свойственно нам уже тогда. И выражалось оно не только в озорной строчке из этого нашего институтского гимна ("И Пушкин прикрывает шляпой зад"), но и во многих других любимых наших песнях. Например, вот в этой, гораздо более известной, автором которой был другой мой институтский товарищ - Женя Агранович :
В тумане тают белые огни.
Сегодня мы уходим в море прямо.
Поговорим за берега твои,
Родимая моя Одесса-мама.
Мы все хватаем звездочки с небес.
Наш город гениальностью известен:
Утесов Лёня - парень фон Одесс,
А Инбер тоже бабель из Одессы!
Был Одиссей, бесспорно, одессит,
За это вам не может быть сомненья,
А Сашка Пушкин тем и знаменит,
Что здесь он вспомнил чудного мгновенья.
Для непосвященных строчка про Веру Инбер, которая "тоже бабель из Одессы", звучала вполне невинно. Но для нас - в то время, когда книги сгинувшего в сталинских лагерях Бабеля были изъяты из всех библиотек и даже самое имя его было неупоминаемым, запретным,- эта с виду такая невинная строчка была исполнена особого, тайного смысла. И строка про "Сашку Пушкина" приводила нас в восторг не только своим веселым озорством. Она тоже несла в себе некий особый, тайный смысл. Ведь еще в 37-м про Пушкина кем-то метко было сказано, что он стал членом Политбюро. А это значило, что так вот, запросто трепать его имя даже опаснее, чем поминать всуе имя Господа Бога. Пожалуй, не менее опасно, чем имя земного нашего бога - Сталина. Женя Агранович не только сочинял стихи, но и сам подбирал к ним мелодии. О нем можно сказать, что он был первым нашим бардом . (А ведь еще целую эпоху - и какую!- предстояло прожить до появления первых песен Булата, Галича, Высоцкого). Не могу утверждать, что мелодия песни про Одессу была им сочинена. Скорее - вот именно подобрана. Но прелесть этой, как и многих других его песен, состояла в том, что текст ее рождался одновременно с мелодией. Мелодия была не одеждой, не платьем, а плотью песни. Текст и мелодия были, как сказано в Евангелии про мужа и жену,- едина плоть. И этому ничуть не мешало то обстоятельство, что иногда Женя подбирал (тут, пожалуй, даже уместнее сказать - сочинял) мелодии и на чужие тексты. Самой знаменитой - без преувеличения можно сказать, знаменитой на всю страну - была в те годы песня "Пыль" , написанная им в соавторстве с Редьярдом Киплингом. Точнее - с переводчицей британского поэта А. Оношкович-Яцыной , которая создала совершенно изумительный русский текст этого киплинговского стихотворения:
День-ночь-день-ночь - мы идем по Африке,
День-ночь-день-ночь - все по той же Африке.
(Пыль-пыль-пыль-пыль - от шагающих сапог!)
Отпуска нет на войне!..
Я-шел-сквозь-ад - шесть недель, и я клянусь,
Там-нет-ни-тьмы - ни жаровен, ни чертей,
А только пыль-пыль-пыль - от шагающих сапог,
И отпуска нет на войне!
Эту свою песню Женька сочинил в сорок первом. В первые дни войны был сформирован в Москве из студентов и других добровольцев 22-й истребительный батальон . В числе этих добровольцев были и наши - литинститутцы: Миша Львовский , Сергей Наровчатов , Сергей Смирнов (будущий автор "Брестской крепости" ). Был среди них и он - Женька Агранович. В своей роте он был запевалой. Но что петь? "Если завтра война" - так война была уже сегодня, и сразу стало ясно, что будет она совсем не такая, как предсказывалось в той бодряцкой песне. Так же мало годились в той обстановке и другие предвоенные советские песни про то, как, "гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход" и "первый маршал в бой нас поведет". На марше всплыли у Жени в голове любимые строчки Киплинга, и он сам не заметил, как из топота сапог и хриплого дыхания товарищей стала складываться, рождаться мелодия. Сперва робко, неуверенно попробовал запеть. Товарищи по роте - свои, литинститутские мальчики - слова Киплинга знали не хуже, чем он. Тут же подхватили. А через день новую песню на марше пел уже весь батальон. И даже комиссар пел вместе со всеми стихи "барда британского империализма". Что-то он, правда, почувствовал своим партийным, классовым чутьем. Спустя несколько дней сказал Жене:
- Песня хорошая. Только вот слова какие-то не наши. Ты б заменил, а? Заменить все киплинговские слова было не в Жениной власти: песня ему уже не принадлежала. Но постепенно к каноническим, киплинговским куплетам он стал добавлять новые, свои:
Семь-дней при-каз: шире шаг и с марша в бой!
Но дразнит нас близкий дым передовой.
Пыль-пыль-пыль-пыль от шагающих сапог.
Отдыха нет на войне.
Го-да прой-дут,- вспомнит тот, кто уцелел.
Не смерт-ный труд, не бомбежку, не обстрел,
А только пыль-пыль-пыль от шагающих сапог.
Отдыха нет на войне.
В этих новых Жениных куплетах не было и тени крамолы (да, собственно, и в киплинговских тоже - разве только одиозное имя их автора). Сочиняя свою песню, он и думать не думал о том, чтобы встать "поклонениям и толпам поперек", противопоставив ее строй и лад строю и ладу тех бодрых, зажигательных маршей, которые неслись тогда из всех репродукторов: "Легко на сердце от песни веселой", "Нам песня строить и жить помогает", "Только в нашей стране дети брови не хмурят, только в нашей стране песни радуют слух, "Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет!.." Энергия этого повсеместно звучащего "марша энтузиастов" полностью исчерпала себя в более поздние времена. (Тогда-то покорили в одночасье всю страну песни Булата, Галича, Высоцкого.) Но и в те времена, о которых я рассказываю, энергия эта уже стала постепенно иссякать. И само собой вышло так, что марш Киплинга в аранжировке Жени Аграновича - быть может, даже независимо от намерений и воли автора - стал противовесом этому уже порядком обрыдшему всем нам "маршу энтузиастов". Годы спустя, уже в новую, другую эпоху, у другого литинститутского поэта, Миши Львовского ,- как я уже сказал, он тоже в первые дни войны был в том 22-м истребительном батальоне,- родилось такое коротенькое стихотворение:
Самогон - фольклор спиртного.
Запрети, издай указ,
Но восторжествует снова
Самодеятельность масс.
Тянет к влаге - мутной, ржавой,
От казенного вина,
Словно к песне Окуджавы,
Хоть и горькая она.
Нефильтрованные чувства
Часто с привкусом, но злы.
Самогонщик, литр искусства
Отпусти из-под полы!
Так вот, хотел того Женя Агранович или не хотел, но его "киплинговский марш" был именно вот таким "самогоном", к которому всех нас инстинктивно тянуло тогда "от казенного вина". Таким "самогоном" были все тогдашние наши институтские шлягеры. Даже самые невинные. Терпкий аромат этого "самогона" был сладок нам уже только тем, что в нем начисто отсутствовал тот "особый запах тюремных библиотек, который исходил от советской словесности" (выражение В. Набокова ). Недаром почти все самодельные наши институтские песни были пронизаны духом пародии. И, конечно, не только потому, что главным их автором был будущий знаменитый наш пародист Владлен Бахнов . (Иногда он сочинял их в соавторстве с кем-нибудь, чаще в одиночку.) В одной из своих песен-эпиграмм Владик ненароком прикоснулся к теме, которой в недалеком будущем предстояло обрести весьма далекий от юмора смысл. Но тогда она еще звучала юмористически и вполне безмятежно:
Агранович нынче - Травин,
И обычай наш таков:
Если Мандель стал Коржавин,
Значит, Мельман - Мельников!
Тут, пожалуй, не до смеха:
Не узнает сына мать!
И старик Шолом-Алейхем
Хочет Шолоховым стать!
Беспечный автор этих строк, как видно, не предчувствовал, что скоро тут будет совсем не до смеха: ведь сочиняя их, он, как и мой покровитель Борис Владимирович Яковлев , еще не знал, что вот-вот разразится землетрясение.
Но даже в тех песнях и стихах, в которых, казалось бы, и самый строгий цензор не мог бы унюхать никакой крамолы, все равно было что-то "самогонное", рожденное инстинктивным отталкиванием от тошнотворного "казенного вина". Ну какими своими приметами могла противостоять "запаху тюремных библиотек" такая, например, не шибко осмысленная песня - тоже принадлежавшая к числу самых наших любимых (она досталась нам в наследство от литинститутцев старшего поколения):
Я влюблен в шофершу Нинку робко,
Вам в подарок от меня коробка.
Подаю, как кавалер, манто вам
И стихи поэта Лермантова.
По заборам я, голуба, лазаю,
Чтоб увидеть вас, голубоглазую.
А душа поет, как флажолета,
Выпирая из угла жилета.
Были там еще какие-то строчки, которых я уже не помню. Помню только, что заканчивался этот иронический романс так:
Уроню аккорды с пианина,
Сядь со мной на "форд" и спи, о Нина!
Или вот такая - казалось бы, совсем уж лишенная всякого смысла - считалочка, составленная из самых причудливых фамилий наших студентов:
Пузис, Музис, Магазаник,
Жегис, Лацис, Посаманик,
Политковская, Бамдас,
Асмус, Лапидус, Уран.
Десять лет спустя считалочку эту с восторгом повторял мой маленький сын. А появлявшегося у нас время от времени Борю Пузиса , вместе с которым мы ностальгически вспоминали и повторяли эти отголоски нашего институтского фольклора, он неизменно встречал восторженным визгом: "Пузик-Музик- Закамазик!.." Такой бешеный успех этой очевидной "зауми" у двухлетнего малыша можно объяснить легко, обратившись к теоретическим рассуждениям К.И. Чуковского в его знаменитой книге "От двух до пяти". Но какими своими свойствами эта заумь пленила меня? Для сочинивших ее старшекурсников прелесть ее заключалась в наборе фамилий, за которыми стояли хорошо известные им фигуры: товарищи, друзья, собутыльники. Для меня же те фамилии были пустым звуком: никого из перечисленных в считалочке лиц я не знал. Но, повторяя этот бессмысленный набор фамилий, я - как и те, от кого я ее услышал,- радостно ржал, не делая при этом вид, что восхищаюсь, а на самом деле испытывая неизъяснимое наслаждение. Повторяя ее, или "Шофершу Нинку", или строчку Жени Аграновича про Веру Инбер, которая "тоже бабель из Одессы", я просто млел от восторга. Природа моего восторга во всех этих - казалось бы, столь разных - случаях, я думаю, была одна. Исходящий от всей тогдашней печатной продукции "запах тюремных библиотек" был неистребим. Им были отравлены даже талантливые и честные книги, чудом прорывавшиеся сквозь все мыслимые и немыслимые цензурные и редакторские заслоны. Их было не так уж мало, этих честных и талантливых книг. Но, проникая в печать, они словно бы вываривались в общем котле советской пропаганды и тоже приобретали этот неуловимый запах, отличавший их от подлинно свободных сочинений, как отличается белье, полученное из прачечной, от выстиранного в речной воде и высушенного солнцем и ветром на вольном воздухе. Вот поэтому-то неподцензурный куплет какой-нибудь шуточной песенки, озорная строка, непочтительностью своей по отношению к каким-нибудь официально узаконенным государственным святыням граничившая с хулиганством ("А Сашка Пушкин тем и знаменит, что тут он вспомнил чудного мгновенья.") воспринимались как глоток свежего воздуха. Это, в сущности, и был тот ворованный воздух, о котором говорил Мандельштам. Нечто подобное, вероятно, имел в виду и Михаил Михайлович Зощенко, когда, прочитав какой- нибудь унылый советский роман, говорил:
- Ну, это диктант. Весь этот наш институтский фольклор был хорош уже только тем, что это был не диктант. Каким бы пустяком ни был какой-нибудь очередной стишок, звучавший на очередном нашем институтском капустнике, какими бы относительными и даже сомнительными ни были его художественные достоинства, он всегда оставался вольным сочинением на вольную тему. Этот дух свободы, который царил в нашем Доме Герцена , был едва ли не главной причиной обрушившихся на меня неприятностей. Я наивно доверился этой атмосфере вольности, поддался ей и начисто утратил бдительность - тот необходимый минимум осторожности, без которого - в глубине души я всегда знал это - в нашей стране жить нельзя. С самого раннего детства я знал (никто меня этому не учил, но это было у меня в подкорке), что далеко не все, о чем говорят дома, можно повторять в детском саду, в школе, в пионерском лагере. Но ветер свободы, который гулял по нашим институтским коридорам и аудиториям, выдул из моей башки последние крохи этого знания, и, опьяненный этим вольным ветром, я, как Икар, отдался его течению и - разбился. И вот теперь, вернувшись, я с новым, не испытываемым прежде наслаждением окунулся в эту атмосферу вольности и свободы. К этому наслаждению добавлялось, делало его еще более острым ощущение себя человеком, только что вытащенным из ледяной воды, в которой он чуть не утонул, и вот - вновь сидящим в теплой, светлой, уютной кают-компании. Наученный своим горьким опытом, я время от времени вспоминал, что надо держать язык за зубами. Судорожно оглядывался вокруг, стараясь угадать, кто из моих соседей по этой уютной кают- компании при случае вновь столкнет меня за борт. Но эти постыдные мысли тут же вытеснялись, заслонялись ни на минуту не покидавшим меня острым, каким-то, я бы сказал, физиологическим ощущением счастья. Увы, это мое счастье длилось недолго. Полгода спустя после моего возвращения в институт разразилась Кампания по борьбе с космополитами в Литинституте .
Ссылки: