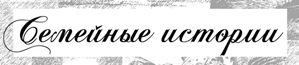 |
Эренбург И.Г. и дочь Ирина
Имя Ирины - единственной дочери Ильи Григорьевича - уже упоминалось мною на этих страницах. Но сейчас настало время сказать о ней чуть подробнее. С Ириной мы дружили тридцать лет, она была очень близким нам человеком, одним из самых близких. Когда- нибудь я, быть может, еще вернусь к рассказу об Ирине и нашей многолетней дружбе с нею. А пока ограничусь лишь несколькими короткими штрихами. К тому же о том, что за человек была Ирина, я, наверное, все равно не смог бы сказать лучше, чем это сделала однажды (в 1995 году) она сама, коротко ответив на вопросы анкеты, присланной ей одним немецким журналом. Приведу лишь некоторые из этих вопросов и ответов:
- Ваши любимые литературные герои?
- Дон Кихот.
- Ваши любимые женские образы в поэзии?
- Татьяна в "Евгении Онегине" Пушкина.
- Какие черты Вы цените больше всего у мужчины?
- Преданность и честность.
- Какие черты Вы цените больше всего у женщины?
- Те же, что у мужчины, плюс откровенность.
- Ваша благодеятельность?
- Верность.
- Что вы цените больше всего у Ваших друзей?
- Верность.
- Ваши герои современности?
- Сахаров и все, кто борется против фашизма.
- Что Вы ненавидите больше всего?
- Трусость.
- Какие исторические личности Вы ненавидите больше всего?
- Гитлера, Сталина, Муссолини. При том, что вопросы ей тут задавались, как это бывает почти во всякой анкете, очень разные, - и умные, и довольно глупые, и даже не слишком внятные (я, например, так и не понял, что означает вопрос "Ваша благодеятельность?" Очевидно, это плохой перевод), - все ее ответы рисуют поразительно цельный человеческий характер. И - заметьте! - ключевое слово тут - верность. Верность провозглашается ею как главная ценность человеческой личности не только в тех ответах, где прямо произнесено это слово, но и в других: в ссылке на Татьяну Ларину как на самый любимый женский образ, в ответе на вопрос о том, что могло бы стать для нее высшим земным счастьем: долгая жизнь с мужем. (Муж Ирины писатель Борис Лапин погиб в 1941 году под Киевом, ей было тогда 30 лет, и она никогда больше не вышла замуж.) Слово это было ключевым и в лексиконе ее отца. Незадолго до смерти Эренбург написал поразительное по откровенности стихотворение. В стихах он и раньше бывал откровеннее, чем в мемуарах, - не говоря уже о публицистических статьях. А это было не просто стихотворение - одно из многих. Это была попытка подвести итог всей прожитой им жизни:
Пора признать - хоть вой, хоть плачь я,
Но прожил жизнь я по-собачьи.
Таскал не доски, только в доску
Свою дурацкую поноску,
Не за награду - за побои
Стерег закрытые покои,
Когда луна бывала злая,
Я подвывал и даже лаял!
Казалось бы, степень его откровенности тут - предельна, и эта его характеристика по саморазоблачительной сути своей - убийственна. Но стихотворение на этом не кончается. И по мере того как оно движется к концу, все яснее становится, что все-таки не пафос саморазоблачения движет рукой автора, а пафос самооправдания. И даже - самоутверждения. Оказывается, вот почему он прожил свою жизнь "по-собачьи":
Не потому, что был я зверем,
А потому, что был я верен -
Не конуре, да и не палке,
Не драчунам в горячей свалке,
Не дракам, не красивым вракам,
Не злым сторожевым собакам,
А только плачу в темном доме
И теплой, как беда, соломе. Несколькими годами раньше он написал другое стихотворение, где ключевым было то же слово: верность.
Жизнь широка и пестра,
Вера - очки и шоры.
Вера двигает горы.
Я - человек, не гора.
Видел, как люди слепли,
Видел, как жили в пекле,
Видел - билась земля,
Видел я небо в пепле,-
Вере не верю я.
Скверно - Скажи, что скверно.
Верно? Скажи, что верно.
Не похвальбе, не мольбе,
Верю тебе лишь, Верность,
Веку, людям, судьбе.
Если терпеть, без сказки,
Спросят - прямо ответь,
Если к столбу, без повязки, -
Верность умеет смотреть. Сейчас, переписывая эти строки, я подумал: интересно, когда он написал вот это: "Спросят - прямо ответь.", вспомнил ли он, как ему весной 1949 года в Париже приходилось увертываться от вопросов о Маркише , Бергельсоне и других арестованных еврейских писателях? Вот как туманно намекает он на это в своих мемуарах: "Луи и Эльза меня спрашивали по-русски:
"Что это значит - "космополиты?" Почему раскрывают псевдонимы?"
Это были свои люди, я их знал четверть века, но ответить не мог. В номере гостиницы я быстро разделся, лег, погасил свет - мечтал уснуть, но вскоре понял, что это не удастся. Я повертелся с боку на бок, зажег свет, почему-то оделся, сел в кресло и начал маниакально фантазировать - что придумать, чтобы меня завтра отослали назад в Москву? Перебирал все варианты - заболеть, объяснить, что не смогу выступить, просто сказать: "Хочу домой!" Так я просидел до утра. Передо мной вставал Перец Маркиш таким, каким я его видел в последний раз. Я вспоминал фразы газетных статей и тупо повторял: "Домой!.." Я сказал, что в этой главе хотел рассказать о самом тяжелом для меня времени, вряд ли это удалось, да и не знаю, можно ли про такое рассказать, добавлю одно - самой страшной была первая ночь в Париже, в длинном узком номере, когда я понял, какой ценой расплачивается человек за то, что он "верен людям, веку, судьбе".
Верность он противопоставлял вере, как зрячесть - слепоте. Но если бы в этих своих рассуждениях он дошел до конца, до последнего предела, он вынужден был бы признать, что непременными атрибутами этой прославляемой им верности были те же "очки и шоры", которые отвратили его от слепой веры.
Да, представление о верности, как о едва ли не главном качестве, определяющем ценность человеческой личности, Ирина унаследовала от отца. Но в контексте приведенных мною ее ответов на ту немецкую анкету (да и всего ее человеческого облика) это слово несет в себе не совсем тот смысл, каким оно было наполнено у Ильи Григорьевича. Он упирал на то, что был верен родине ("плачу в темном доме и теплой, как беда, соломе"), веку, судьбе. Для нее верность - это верность памяти погибшего мужа, верность дружбе, верность данному слову. Мы дружили с ней тридцать лет. Не так уж мало было у меня в жизни верных друзей, тесные отношения с которыми оставались прочными на протяжении десятилетий. Но я не встречал более верного, более надежного человека, чем Ирина. Друзья, даже самые близкие, не всегда бывали на высоте. Да иначе ведь и не бывает: у каждого своя жизнь, свои заботы, и нет ничего удивительного, что порой, когда ты нуждаешься в них, надеешься на их - если не помощь, то хотя бы сочувствие, теплый душевный отклик, - им не до тебя. На Ирину можно было положиться всегда и во всем. Но ее верность никогда не бывала слепой. Даже верность памяти отца, которая наложила мощный отпечаток не только на ее сознание, но и подчинила себе весь бытовой уклад ее жизни.
Сын Бориса Леонидовича Пастернака - Евгений Борисович , говоря об отце, неизменно называл его "папочка". Это было трогательно, но и немного комично: многие из нас, слыша это детское слово, произносимое взрослым - и даже пожилым - мужчиной, невольно прятали улыбки. Ирина, говоря об отце, называла его "Илья". Это у них так "исторически сложилось". Ирина была ребенком, когда ее мать ушла от Эренбурга к его другу Тихону Ивановичу Сорокину .
"Ушла, - как рассказывает в своих воспоминаниях Ирина, - потому что мечтала создать семью, а с моим отцом это было невозможно. Никто из взрослых не нашел нужным объяснить маленькой девочке не только причины, но и самую суть перемен, происшедших в ее семье. Поначалу она росла с матерью и отчимом, а отец взял ее к себе позже. Вот так и вышло, что всю жизнь она называла Сорокина папой, а Эренбурга Ильей. Все это я от Ирины слышал много раз, и всю эту подоплеку такого - не совсем обычного - обращения ее к отцу хорошо знал. Но всякий раз, слыша, как, вспоминая об отце, она называет его "Илья", я невольно воспринимал это как знак совершенно особых ее с ним отношений. Отношений не отца с дочерью, а двух взрослых и равных друг другу людей. Это слово - "Илья", - по каким бы там биографическим причинам ни установилось оно в их обращении друг к другу, очень точно выражало ее отношение к отцу: не снизу вверх, а на равных. А в чем-то даже, пожалуй, и сверху вниз, как у взрослого, умудренного опытом человека к наивному "большому ребенку".
Наивным ребенком Илья Григорьевич, конечно, не был. Но когда в декабре 1937 года он приехал из Мадрида в Москву, он попал в совершенно новый, незнакомый и непонятный ему мир. И первым гидом, первым его провожатым в этом поразившем его мире стала Ирина. Самые элементарные вещи она объясняла, втолковывала ему как маленькому: В лифте я увидел написанное рукой объявление, которое меня поразило: "Запрещается спускать книги в уборную. Виновные будут наказаны".
- Что это значит? - спросил я Ирину. Покосившись на лифтершу, Ирина ответила:
- Я так рада, что вы приехали!.. Когда мы вошли в квартиру, Ирина наклонилась ко мне и тихо спросила:
- Ты что, ничего не знаешь?.. Полночи она и Лапин рассказывали нам о событиях: лавина имен, и за каждым одно слово - "взяли". Я не мог успокоиться, при каждом имени спрашивал:
- Но его-то почему?.. Он еще пытался понять: за что? почему? А Ирина уже знала, что берут ни за что и "нипочему". В 1967 году, когда Эренбург умер, Ирине для утверждения ее в правах наследства понадобилась метрика. Никакой метрики у нее не было, и она написала в Ниццу, где должны были сохраниться какие-то документы. Кое-что действительно сохранилось: из Ниццы пришла справка, подтверждающая, что в таком-то году ее мать, такая-то, действительно родила девочку Ирину. Но имя отца там указано не было. Повертев ненужную справку в руках, женщина-нотариус сказала, что Бог с ней, с метрикой:
"Вашей метрикой будут мемуары вашего отца".
В эренбурговских мемуарах имя Ирины и в самом деле упоминается многократно. И если внимательно проглядеть все эти упоминания, можно установить не только факт их прямого родства (что только и было нужно нотариусу), но и характер их взаимоотношений. Эренбург, вынужденный по обстоятельствам своей жизни долго жить за границей, действительно не знал - не мог знать! - многого. И Ирина нередко бывала его глазами, его ушами: поневоле оторванный от советской реальности, свое знание о ней он черпал из ее свидетельств, ее жизненных впечатлений:
По поручению "Красной звезды" Ирина в марте поехала в Одессу - оттуда отправляли англичан, французов, бельгийцев, освобожденных Красной Армией. Тогда же прибыл из Марселя транспорт с нашими военнопленными , среди них были убежавшие из плена, боровшиеся в отрядах французских партизан. Ирина рассказывала, что их встретили как преступников, изолировали, говорят, будут отправлять в лагеря.
Отчасти именно эта роль, которую Ирина играла в его жизни, определила характер их отношений. Не только ее отношения к нему, но и его отношения к ней. Конечно, она любила отца. И конечно, относилась к нему с уважением. И конечно, ей было обидно, если в ее присутствии кто-нибудь говорил о нем в неуважительном или даже оскорбительном тоне. Но обсуждать его слабости и ошибки и даже осуждать его за те - не всегда пристойные - поручения, которые ему приходилось выполнять, при ней можно было свободно. И даже классическую фразу Бабеля, нередко вспоминавшуюся кем-нибудь из нас в разговорах на эту тему ("В номерах служить, подол заворотить"), она выслушивала - без удовольствия, конечно, - но, во всяком случае, с пониманием, не возражая.
Ссылки: