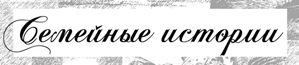 |
Бухарин Н.И.: последний месяц
Этот последний месяц был самым тяжелым. Впрочем, у Н.И. были мгновения относительного просветления, когда он надеялся на жизнь. Слишком затянулось их (Бухарина и Рыкова) "дело", с арестом все медлили.
- А что, если вышлют меня к чертям на рога, ты поедешь со мной, Анютка? - с детской наивностью спрашивал он.
- Неужто перед всем миром Коба устроит третье средневековое судилище? Мне только исключение из партии невыносимо, трудно будет пережить, а дело я найду себе всюду, займусь естественными науками, поэзией, напишу повесть о пережитом; рядом жена любимая, сын будет подрастать... О чем еще можно мечтать при сложившихся обстоятельствах! К чертям на рога я с тобой поеду, но боюсь, что это лишь радужные мечты, - я не могла успокаивать Н.И.
Проблески оптимизма длились недолго, перспектива, была предельно ясна. Н.И. сидел в своей комнате, как в западне. В последнее время даже в ванную помыться я с трудом заставляла его выйти. Он опасался столкнуться с отцом не только потому, что не хотел огорчать его своим видом, еще больше боялся вопроса. "Николай! Что происходит? " Н.И. приносило облегчение, что умершая в 1915 году мать не видит его страданий. Любовь Ивановна , зная что сын с детства был увлечен естественными науками мечтала, чтобы он стал биологом (судьба биологов в ту мрачную пору оказалась не лучше, чем судьба старых большевиков), и огорчалась, что Николай занялся революционной деятельностью, волновалась, когда к ним на квартиру до революции приходили с обыском. "Что бы было с ней теперь - трудно себе вообразить!" - часто говорил Н.И.
Февраль 1937 года уже отсчитывал последние дни нашей совместной жизни, как вдруг зазвонил долго молчавший телефон. Иван Гаврилович слегка приоткрыл дверь и попросил меня взять трубку. К моему удивлению, звонил Коля Созыкин , мой бывший однокурсник и комсорг. Тот самый Коля, которого я не хотела раскрыть Берии, а он мне раскрыл его. Коля пригласил меня в гости в гостиницу "Москва". И хотя Н.И. заподозрил, что мой Коля - подставное лицо, в конце концов решил, что ничего страшного не случится, если я забегу к нему: - Только лишнего не говори, предупредил Н.И., - вдохнешь струю свежего воздуха - пойди, пойди, отвлечешься немного.
У Созыкина я пробыла недолго, но все "лишнее", что только можно было ему рассказать, я рассказать успела: о подробностях декабрьского Пленума ЦК ВКП(б), об очных ставках, о том, что Н.И. решительно отрицает причастность к преступлениям. Я проявила осторожность лишь в том, что имени Сталина не упоминала, хотя к тому времени оценивала эту зловещую фигуру резко отрицательно. На вопрос Созыкина, как Сталин относится к происходящему и персонально к Н.И., я пустила в ход рассуждение, которым любили пользоваться наши глупые обыватели, и ответила. "НКВД Сталина обманывает".
Так я излила душу Созыкину, "вдохнула струю свежего воздуха" и заторопилась назад. Подойдя к дому, я увидела, что из соседнего с нашим подъезда, ближе к Троицким ворогам, вышел Серго Орджоникидзе и направился к машине. Заметив меня, он остановился. Но что я могла сказать ему в тот момент? Несколько мгновений мы стояли молча. Серго смотрел на меня такими скорбными глазами, что по сей день я не могу забыть его взгляда. Затем он пожал мне руку и сказал два слова: "Крепиться надо!" Сел в машину и уехал. В тот миг невозможно было предположить, что Орджоникидзе осталось жить считанные дни.
Дома я рассказала Н.И. о встрече с Серго. И хотя "крепиться" трудно было, он был растроган. Как мало надо было в те дни, как радовало даже одно благожелательное слово! Тут же Н.И. написал письмо Орджоникидзе в надежде, что тот не ответит ему так, как ответил Ворошилов. Письмо к Орджоникидзе я наизусть не учила, как то, о котором мне еще предстоит рассказать, поэтому могу лишь кратко изложить его содержание.
Н.И. писал Серго, что, поскольку тот достаточно хорошо знаком со сфабрикованными клеветническими показаниями против него, присутствовал и на чудовищных и необъяснимых очных ставках, он может понять состояние Н.И. и знает, чего он ждет. Все, что происходит, заставляет его думать, что в НКВД действует такая мощная сила, которой ни Серго, ни он сам, пока не находится в тюремных застенках, до конца понять не может. Но для него (Бухарина. - А.Л.) становится все яснее, что эта сила действует уверенно, не опасаясь провала, если заставляет всех тех, кто посвятил свою жизнь народу, революции, оговаривать самих себя и клеветать на товарищей по партии. И далее дословно:
"Начинаю опасаться, что и я в случае ареста могу оказаться в положении Пятакова, Радека, Сокольникова, Муралова и других. Прощай, дорогой Серго . Верь, что я честен всеми своими помыслами. Честен, что бы со мной в дальнейшем ни случилось". (Заключительная фраза письма напомнила мне последние слова Радека при его разговоре с Н.И. на даче:
"Николай! Верь, что бы со мной ни случилось, я ни в чем невиновен".) Свое письмо Н.И. закончил просьбой к Орджоникидзе : в случае его ареста позаботиться о семье. Просил, чтобы Серго хотя бы на первое время, пока я не окрепну, не приду в себя, не устроюсь работать, взял к себе ребенка. Но просьба о ребенке тормозила мои действия, я все медлила с отправкой. И хотя я плохо представляла себе возможность Орджоникидзе в то страшное время взять к себе, даже ненадолго, нашего ребенка, мое материнское чувство заставило меня опасаться этого. Мне казалось, что поначалу, с помощью матери, а затем и самостоятельно, я смогу его вырастить. Но вопрос решился сам собой. Через короткое время передать письмо было некому...
Серго Орджоникидзе не смог стать не только соучастником, но и пассивным наблюдателем неслыханного произвола. Оставался один выход уйти навсегда. Вопрос: кто его избрал, этот выход?.. Слухи разноречивы. Сейчас, после всего пережитого, обращение к Серго с просьбой помочь семье кажется наивным и в том случае если бы он остался жить. Но разве мог Н.И. предвиден что через три с половиной месяца после его ареста меня разлучат с ребенком и мне не придется думать о куске хлеба для него?..
Расставшись с сыном , когда ему был год, я увидела его через 19 лет двадцатилетним юношей, летом 1956-го, когда он приехал ко мне в Сибирь, в поселок Тисуль Кемеровской области - последнее место моей ссылки.
Да простит меня мой читатель, если таковой когда-нибудь у меня будет, за то, что я ненадолго отвлекусь от воспоминаний о страшных днях и перенесусь почти на два десятилетия вперед. В Кремль я еще вернусь, чтобы проститься с Н.И. История нашего расставания не канет в Лету, раз она живет в душе моей, в моей памяти. См. Встреча Бухариной с сыном
Письмо, адресованное С. Орджоникидзе, лежало в нашей комнате на столе. В течение нескольких дней Н.И. напоминал мне, чтобы я его отправила, - лучше самой отнести на квартиру, что для меня было еще труднее, чем отправить с фельдъегерем. Ребенок последние дни до ареста Н.И. проводил больше времени с нами. За неимением игрушек (кроме погремушек, которые Н.И. успел притащить на дачу до отъезда на Памир, других игрушек не было). Юра таскал по полу и подбрасывал вверх чучело сизоворонка, когда- то подстреленного Н.И. Он ползал и вставал, держась за кровать отца, переступал неуверенным шагом, чтобы приблизиться к нему и поцеловать. Ах, как он пронзительно кричал, краснея от напряжения: "Папа, папа, папа!.." Перед расставанием с отцом он неосознанно, интуитивно проявлял к нему особую нежность.
Неожиданно раздался звонок в дверь. Как всегда встревоженная, я пошла открыть дверь. На этот раз доставили извещение о созыве Пленума ЦК ВКП(б), вошедшего в историю как февральско-мартовский . Поскольку ко всем присылавшимся показаниям была приложена бумажка: "Материалы к пленуму", Н.И. пленума ждал. Однако он не исключал и того, что арест может произойти до его созыва. Сообщение о пленуме было получено за несколько дней до его открытия, первоначально назначенного на 17 - 19 февраля (точно не помню).
В повестке дня значились два вопроса.
1. Вопрос о Н.И. Бухарине и А.И. Рыкове.
2. Организационные вопросы. Прочитав извещение, Н.И. сказал категоричным тоном:
- Не пойду я на этот пленум, со мной можно там и в мое отсутствие расправиться.
Он решил объявить голодовку . Тут же написал заявление в Политбюро для оглашения на пленуме: "В протест против неслыханных обвинений в измене, предательстве и т.д. объявляю смертельную голодовку и не сниму ее до тех пор, пока не буду оправдан. В противном случае последняя просьба - не трогать меня с места и дать возможность умереть". (Цитирую по памяти. За точность содержания ручаюсь.)
Перед началом голодовки Н.И. попросил меня помочь ему разыскать в его письменном столе маленькую записочку, написанную Сталиным, чтобы уничтожить ее перед возможным обыском. Записочка эта была найдена при самых безобидных обстоятельствах, однажды после окончания заседания Политбюро в начале 1929-го или в конце 1928 года Н.И. обнаружил, что выронил из кармана маленький карандашик, которым любил делать необходимые записи. Он вернулся в пустую комнату, где заседало Политбюро, заметил на полу карандаш, нагнулся, чтобы поднять его, а рядом лежала небольшая бумажонка, которую Н.И. также поднял. На ней рукой Сталина было написано: "Надо уничтожить бухаринских учеников!"
Так Сталин изложил свои мысли на бумаге, затем случайно уронил записку на пол и забыл про нее. Таким образом, этот документ, говорящий о зловещих планах Сталина, оказался у Н.И. и пролежал в его письменном столе много лет. Н.И. решил избавиться от этой бумажонки, чтобы не быть обвиненным в чем угодно: в краже, подделке документа и т.д. Записка эта стала единственным документом, уничтоженным перед обыском.
Известно ли было о ней ученикам Н.И.? Не уверена, что всем. Точно могу сказать, что знали о ней Д.П. Марецкий и Ефим Цетлин . Записка, которую я своими руками уничтожила, взволновала меня, и я в письменной форме (понятно почему) спросила Н.И..
- Следовательно, ты знал о планах Сталина?
- То, что Сталин мог расстрелять моих бывших учеников, я в то время не подозревал, думал, что он решил уничтожить мою школу путем изоляции их от меня (Сталин действительно первоначально отправил бывших учеников Н.И. на периферию. - А.Л), теперь я не исключаю, что он может их уничтожить физически, - получила я письменный ответ.
Кабинет Н.И. был в полном запустении. Птицы - два попугайчика - неразлучника - подохли и валялись в вольере. Посаженный Н.И. плющ завял; чучела птиц и картины, висевшие на стене, покрылись пылью. Войдя в кабинет, я особенно остро почувствовала, что на пороге смерть. Мы сели на диван. Над ним по-прежнему висела моя любимая акварель "Эльбрус в закате". Я не выдержала и тряпкой смахнула пыль со стекла. Сразу же приоткрылась двуглавая ледяная, голубоватая вершина Эльбруса, сверкающая румяным отблеском заката.
- Анютка, сказал Н.И., - в этой квартире погибла несчастная Надя (он имел в виду Надежду Сергеевну Аллилуеву - А.Л), в этой же квартире уйду из жизни и я.
Н.И. в то время верил своим намерениям: на пленум он не пойдет, а на худой конец умрет на своей постели от смертельной голодовки. Если пленум не прислушается к его протесту, то, во всяком случае, Коба даст ему умереть у себя дома.
Я, пишущая эти строки десятилетия спустя, имею то преимущество перед Н.И., что знаю шаг за шагом дальнейшее развитие событий, чего Н.И. в тот момент твердо знать никак не мог. Он мог только предполагать, а предположения определялись во многом его неистовым жизнелюбием. Он знал цену Сталину, но надежда на жизнь минутами заставляла Н.И. верить ему.
Мы еще оставались в кабинете, как неожиданно вошли трое мужчин. Звонка в дверь мы не слышали, открыл им Иван Гаврилович. Эти трое сообщили товарищу Бухарину - так они его назвали, - что ему предстоит выселение из Кремля. Н.И. и прореагировать не успел - зазвонил телефон. У аппарата был Сталин . Что там у тебя, Николай? - спросил Коба. Вот пришли из Кремля выселять, я в Кремле вовсе не заинтересован, прошу только, чтобы было такое помещение, куда вместилась бы моя библиотека.
А ты пошли их к чертовой матери! - сказал Сталин и повесил трубку. Трое неизвестных стояли около телефона, услышали слова Сталина и разбежались к "чертовой матери".
Поразителен не только звонок Сталина за несколько дней до февральско- мартовского Пленума, очевидно не случайное совпадение звонка с сообщением о выселении из квартиры. И без звонка можно было представить себе, как живет Н.И. в своей кремлевской "тюрьме". Но Коба все продолжал свою зловещую игру и остановиться не мог. Однако еще больше я была потрясена тем, что в такой страшный для Н.И. момент, когда на столе лежало пока еще не отправленное заявление пленуму о голодовке, он подумал о квартире, в которой разместилась бы его огромная библиотека.
Следовательно, были у него проблески надежды на жизнь? Думаю, нет. Скорее, таким образом он рассчитывал прояснить ситуацию, вызвать Сталина на разговор, но тот разговаривать не пожелал. Переселять Н.И. из Кремля было действительно бессмысленно, через считанные дни Хозяин обеспечил его квартирой в тюремной камере, хотя А.И. Рыкова все же переселить из Кремля успел.
Пережив очередную малообъяснимую выходку Сталина , мы отправились в нашу комнату. Но по пути вдруг Н.И. завернул в соседнюю - маленькую, пыльную, захламленную старыми вещами, скорее каморку, а не комнату, со сводчатыми потолками, с окном, закрытым старинной ромбообразной, с утолщениями на переплетениях решеткой. Он рухнул на пол, положил голову на старые пыльные сапоги, воскликнул:
- Вандалы! Варвары! - и разрыдался.
- Что ты делаешь, Николаша! Зачем тебе валяться в такой грязи, вставай скорей! Пойдем в нашу комнату!
- Нет, я хочу привыкнуть к камере, меня ждет тюрьма! Нет, я не уйду отсюда! Я не выдерживаю, Анютка! Не вы-дер-жи-ваю! Кроме всего прочего, я страдаю из-за того, что и тебе приходится вместе со мной все это переживать. Если б я только знал, если б я мог такое предвидеть!..
Как бы я тебя ни любил, если бы и не смог подавить в себе этого чувства, я бы удрал от тебя за тридевять земель! А я еще стремился иметь ребенка накануне такой беды. Мне еле удалось уговорить Н.И. вернуться в нашу обитель. К вечеру я отправила в Политбюро заявление Н.И. Пленуму ЦК ВКП(б) о голодовке.
На следующее утро Н.И. простился с отцом , Надеждой Михайловной , ребенком и начал голодовку . Хотел проститься и с дочерью - Светланой , он называл ее Козечкой. Девочке в то время шел только тринадцатый год. Н.И. намеревался позвонить ей, но был до такой степени подавлен, что, опасаясь ее травмировать, сделать этого не смог.
Голодовка легла на истощенный полугодовым "следствием", точнее, полугодовым позорным издевательством организм. Н.И. терял силы катастрофически быстро.
Через двое суток после начала голодовки Н.И. почувствовал себя особенно плохо: побледнел, осунулся, щеки ввалились, огромные синяки под глазами. Наконец он не выдержал и попросил глоток воды, что было для него моральным потрясением: смертельная голодовка предусматривала отказ не только от пищи, но и от воды - сухая голодовка. Состояние Н.И. меня настолько пугало, что тайком я выжала в воду апельсин, чтобы поддержать его силы. Н.И. взял из моих рук стакан, почувствовал запах апельсина и рассвирепел. В то же мгновение стакан с живительной влагой полетел в угол комнаты и разбился.
- Ты вынуждаешь меня обманывать пленум, я партию обманывать не стану! злобно крикнул он так, как со мной еще никогда не разговаривал.
Я налила второй стакан воды, уже без сока, но Н.И. и от него решительно отказался:
- Хочу умереть! Дай умереть здесь, возле тебя! - добавил он слабым голосом.
Я почувствовала, что меня покидают силы, и прилегла рядом с Н.И. В тот момент у меня было ощущение, что мы умираем одновременно, падаем в бездонную пропасть. Я стойко держалась все эти страшные месяцы, но на этот раз разрыдалась. И слезы мои привели Н.И. в еще большее отчаяние. Он решил успокоить меня песней.
- Споем-ка с тобой, Анютка, песню, ту, что мы вместе с Клыковым любили петь. - И Н.И. тихо запел:
Чудный месяц плывет над рекою,
Все объято ночной тишиной.
Ничего мне на свете не надо.
Только видеть тебя, милый мой!.. Пение Н.И. меня рассмешило и на мгновение отвлекло от мрачных дум. - Бедный Клычини, - Н.И. вспомнил своего шофера, - что-то он теперь обо мне думает, хоть бы и его не загребли (о дальнейшей судьбе Николая Николаевича Клыкова мне ничего не известно).
После 16 января, когда была снята подпись Бухарина как ответственного редактора "Известий", и во время и после процесса Радека, Сокольникова, Пятакова Н.И заглядывал в газеты крайне редко. Радио почти не включали, в особенности после того, как Н.И. услышал чью-то речь, в которой было сказано, что он продался врагам Советского государства за тридцать сребреников. Даже Юрина няня, белоруска, с возмущением сказала:
- Что яны гады брешут! Это Николай Иванович, голоштанный, продался за тридцать сребреников?! Яны ему не нужны!
Но, кажется, 19 февраля, в тот самый день, когда должен был начаться пленум, Н.И. попросил включить радио. Захотел услышать, есть ли информационное сообщение о пленуме, на котором он не собирался присутствовать. Но как только включили радио, зазвучала траурная музыка.
Мы насторожились: кто же умер? И через мгновение узнали - 18 февраля 1937 года скончался Серго Орджоникидзе , как было сообщено, от паралича сердца. Диагноз мы не подвергали сомнению.
Невозможно передать состояние Н.И.. Исторгнутый из жизни, точно прокаженный, Бухарин не имел даже возможности зайти в соседнюю квартиру, чтобы проститься с Серго. которого глубоко уважал.
Не выдержал, бедный Серго. Не выдержал этого ужаса, - в полном отчаянии говорил Н.И..
Ах, если бы он знал, что Орджоникидзе скончался совсем не от паралича сердца... Хорошо, что не знал! Бухарин к этому времени понимал, что при абсолютной власти Сталина Орджоникидзе изменить положение был не в силах. Но одно его присутствие в зале пленума (декабрьского), возбужденный, взволнованный вид, одно слово недоверия, обращенное к ораторам-обвинителям, одна фраза, произнесенная им на Политбюро во время очной ставки с Пятаковым: "Ваши показания добровольны?", уже согревали Н.И. Он был до такой степени травмирован смертью. Орджоникидзе, что минутами, казалось, пребывал в состоянии прострации.
Н.И. не исключал, что его голодовка, его отчаянный протест против фантастических обвинений, о котором С. Орджоникидзе, как думал Н.И., должно было быть известно, если только от него это не скрыли, и в то же время невозможность что-либо изменить ускорили роковой конец.
Н.И. знал, что Орджоникидзе относился к нему с любовью и уважением. Он ярко проявил свое отношение к Бухарину, когда его можно было проявить открыто. Еще в 1925 году на XIV съезде ВКП(б), на котором Н.И. оказался главной мишенью нападок "новой" оппозиции . Орджоникидзе говорил:
"...Бухарина, товарищи, мы все знаем, а Владимир Ильич лучше всех знал его. Он Бухарина ценил очень высоко и считал его самым крупным теоретиком нашей партии... Я думаю, мы должны в этом вопросе остаться опять-таки на позиции Ильича. Бухарин один из лучших теоретиков, наш дорогой Бухарчик, мы все его любим и будем его поддерживать. Товарищи, если бы у других наших вождей была та великолепная черта, которая имеется у Бухарина, когда он не только имеет смелость высказывать свои мысли, даже тогда, когда это идет вразрез всей партии, но он имеет смелость открыто заявить о своих ошибках, когда он в этом убеждается, если бы у других наших вождей было это прекрасное качество, нам было бы куда легче ликвидировать наши спорные вопросы..."
В 1929 году возможности Орджоникидзе были весьма ограниченны, но, несмотря на это, он, по словам Н.И., как председатель ЦКК всеми силами старался погасить разногласия. После того как Н.И. был выведен из Политбюро, снят с работы ответственного редактора "Правды" и секретаря ИККИ и с 1930-го по начало 1934 года работал в Наркомтяжпроме , Серго сохранил к нему прежнее уважение, был подчеркнуто внимателен.
Семен Александрович Ляндрес рассказал мне, что ему не раз приходилось видеть, когда он заходил вместе с Н.И. в кабинет Серго, как тот всегда, даже если в кабинете находились люди, встречал Н.И. стоя и без дружеского рукопожатия разговор не начинал. Серго внимательно прислушивался к мнению Н.И. и во многом помогал ему. Он поддержал инициативу Н.И. в организации планирования научно-исследовательской работы, что позволило мобилизовать силы крупнейших ученых страны и подняло работу научно-исследовательских институтов.
Словом, Н.И. и Серго связывали глубокая взаимная симпатия и уважение. Смерть Орджоникидзе поразила Н.И. точно ударом. Он лежал, не поднимаясь с постели, как мне казалось, в забытьи. Это кажущееся забвение в действительности было концентрированной сосредоточенностью: Н.И. сочинял поэму, посвященную памяти С. Орджоникидзе, в которой выразил свое потрясение и скорбь по поводу тяжелой утраты. Ослабевший от голодовки, он писал полулежа. Затем я перепечатала поэму на машинке в трех экземплярах. Первый был отослан жене Орджоникидзе Зинаиде Гавриловне , второй, как ни прискорбно об этом сообщить, - виновнику гибели Серго. Третий экземпляр остался у меня. К сожалению, стихи я не старалась запомнить, никак не могла предположить, что их заберут при обыске, несмотря на мою настоятельную просьбу оставить их мне. Запомнились только две заключительные строки:
Он был точно гранит средь пламенного моря
И рухнул в пену волн, как молния, гроза!
В связи со смертью С. Орджоникидзе и торжественными похоронами очередной жертвы Сталина пленум был отложен на несколько дней и назначен на 23 февраля. Было получено второе извещение о созыве пленума, повестка дня которого в отличие от первой - состояла не из двух, а из трех пунктов:
1. Вопрос об антипартийном поведении Н. Бухарина в связи с объявленной голодовкой пленуму.
2. Вопрос о Н. Бухарине и А. Рыкове.
3. Организационные вопросы. Дополнительный пункт, внесенный в повестку дня, возмутил Н.И. О каком антипартийном поведении по отношению к пленуму могла идти речь, когда обвинения против него носили характер не антипартийных, а уголовных и могли быть предъявлены не политическому деятелю, а скорее бандиту с большой дороги. "В общественной жизни такого не бывает", - даже на процессе Бухарин сумел ввернуть такую фразу. Но как ни был возмущен Н.И. отношением к его отчаянному протесту- голодовке, в то же самое время он был несколько озадачен дополнительным пунктом повестки дня пленума. Возможно, дела его не так уж и плохи, решил он, и Коба снова поразит неожиданностью, разыграет из себя человека, относящегося к позорному следствию с недоверием, и пощадит их обоих он имел в виду и Рыкова.
Ах, какими наивными кажутся теперь его рассуждения! Хотя, может быть, учитывая момент - психологию погибающего Бухарина в сочетании с характером Сталина, в этом его рассуждении были элементы здравого смысла. Так или иначе, в связи с дополнительным вопросом повестки дня Н.И. принял новое решение: на пленум все-таки пойти, не прекращая голодовку.
Бухарин голодал седьмые сутки и был настолько слаб, что тренировался в ходьбе по комнате, чтобы дойти на заседание. Хотя идти было недалеко (пленум собрался в Кремле), я решила проводить Н.И.
Дождаться, пока кончится заседание пленума или прийти примерно к его окончанию, чтобы встретить Н.И., сил у меня не было. Да и не было уверенности, что Н.И. не арестуют поcле первого заседания. Я поплелась домой и в волнении ждала. На этот раз Н.И. возвратился и рассказал мне следующее.
В вестибюле, у вешалки, Н.И. встретил Рыкова . Изможденный и исстрадавшийся сам, Алексей Иванович с болью смотрел на своего друга, до такой степени изменился Н.И. Затем Рыков сказал: "Самым дальновидным из нас оказался Томский ". Напоминаю, если раньше, на декабрьском Пленуме, Рыков рассматривал самоубийство Томского как отягчающее следствие обстоятельство и осуждал его поступок, то теперь, к февральско- мартовскому Пленуму, понял, что следствие лишь называется следствием, в действительности, как выразился Алексей Иванович, "это расправа".
При входе в зал заседания в присутствии уже пришедшего Сталина Бухарину сочувственно пожали руку лишь двое: Иероним Петрович Уборевич и Иван Алексеевич Акулов , в то время секретарь ЦИКа (оба они, как известно, были расстреляны ). Акулов даже сказал: "Мужайтесь, Николай Иванович". Остальные, столкнувшись с Бухариным, его как бы не замечали.
Войдя в зал, Н.И. не удержался на ногах, он упал от головокружения и сидел на полу в проходе, ведущем в президиум. К нему подошел Сталин и сказал:
- Кому ты голодовку объявил, Николай, ЦК партии? Посмотри, на кого ты стал похож, совсем истощал. Проси прощения у пленума за свою голодовку.
- Зачем это надо, - спросил Бухарин Сталина, если вы собираетесь меня из партии исключать?
Исключение из партии Н.И. рассматривал как наихудшую кару, хотя временами готов был отправиться к "чертям на рога", лишь бы жить.
- Никто тебя из партии исключать не будет, - ответил Сталин. Так продолжал он лгать, не стесняясь сидящих вблизи членов ЦК, до которых наверняка дошли слова Сталина. Очевидно, и они Сталину поверили. Иди, иди, Николай, проси прощения у пленума, нехорошо поступил.
Как любил иезуит, чтобы все подчинялись его воле! А ведь слова эти произнесены были за четыре дня до ареста Бухарина, в то время, когда, без сомнения, для Хозяина предрешен был не только его арест, но и расстрел.
Но Николай снова поверил Кобе. Трудно было вообразить, что можно лгать так бессмысленно. Н.И. еле поднялся на трибуну и попросил прощения за голодовку, вызванную состоянием крайнего возбуждения в связи с необоснованными обвинениями, которые он решительно отвергает. Он заявил, что отказывается от голодовки в надежде на то, что чудовищные обвинения с него будут сняты. Бухарин вновь потребовал создания комиссии по расследованию работы НКВД . Произносить длинные речи не было ни сил, ни смысла. Он спустился с трибуны и снова сел на пол, на этот раз не потому, что упал от слабости, а скорее потому, что чувствовал себя отверженным. Никто из присутствующих на пленуме, кроме тех, кто оказался невдалеке и слышал диалог между Бухариным и Сталиным, не подозревал, что за прекращением голодовки и извинением за нее кроется обещание Сталина не исключать Н.И. из партии, следовательно, как предполагал Н.И., и обвинения против него будут сняты.
Но вслед за Бухариным выступил Ежов и произнес обвинительную речь, блок "правых" с троцкистско-зиновьевским центром, блок "правых" с "параллельным" троцкистским центром, осужденным месяц назад.
Следовательно, обвинения во вредительстве, организации кулацких восстаний, расчленении СССР, терроре, "дворцовом перевороте", в многочисленных неудавшихся покушениях на Сталина, в причастности к убийству Кирова оставались в силе. Тем не менее Н.И. после "обещания" Сталина все еще допускал, что Коба радостно удивит пленум и выразит недоверие клеветническим показаниям, что в этом тайный смысл его "обещания". Зачем же, в таком случае, оно ему понадобилось? И в самом деле - зачем?.. Да и какая цель в его таинственном телефонном звонке?..
Н.И. впервые за неделю поел "из уважения к пленуму..." и, казалось, в какой-то степени стал спокойнее, но ночью спал тревожно: все чудилось ему, что кто-то стучит, выдалбливает стенку, смежную с квартирой Орджоникидзе (которого уже не было в живых), и подкладывает в нее контрреволюционные документы, чтобы обнаружить их во время обыска, как это сделано было на даче у Радека, если верить уборщице Дусе.
На следующий день Н.И. вернулся в безнадежном состоянии. Вновь, как и на декабрьском Пленуме, яростно обвиняя Бухарина, выступили Молотов и Каганович . Во время речи Молотова Н.И. крикнул:
- Я не Зиновьев и не Каменев! Я лгать на себя не буду!
- Арестуем, сознаетесь, - ответил Молотов. - Фашистская пресса сообщает, что наши процессы провокационные. Отрицая свою вину, и докажете, что вы фашистский наймит!
"Вот где мышеловка!" - заметил Н.И., рассказывая мне об этом. Не помню, кто из ораторов рассказал о проведенных очных ставках с Радеком, Пятаковым и Сосновским, о том, что те подтвердили блок троцкистов с "правыми", так что понятно, чем занимались Бухарин и Рыков.
Сталин добавил:
- Бухарин мне письмо прислал, решил взять Радека под защиту, вот какой хитрый конспиративный шаг был сделан! (Передаю в пересказе Н.И.) Всплыло обвинение в причастности Бухарина, Рыкова, Томского к платформе Рютина . Бухарин и Рыков решительно отвергали осведомленность о платформе - большую, чем об этом информировали в печати. Бухарин заявил, что если бы он имел особую точку зрения, то писал бы сам, для этого ему не нужен Рютин.
- Ты и писал, - сказал Сталин, - рютинской она названа из конспиративных соображений.
Но больше всего Н.И. был потрясен выступлением Калинина , нравственные качества которого ценил несравненно выше, чем Молотова и Кагановича. Выступление Калинина особенно ярко дало понять силу давления Сталина на членов Политбюро. Калинин говорил вяло, выжимая из себя каждое слово, как выразился Н.И., "зад чесал..." Безвластный Всесоюзный староста говорил с такой душевной болью, что Н.И. не смог испытать чувства ненависти, он искренне пожалел его. Напоминаю, это он, Калинин, при личном разговоре с Бухариным сказал ему: "Вы, Н.И., правы на все двести, но власть мы упустили, а полезней единства партии ничего нет".
Члены ЦК, по рассказам Н.И.. были растерянны и подавленны. Мария Ильинична Ульянова , которую связывали с Бухариным дружеские отношения, платком утирала слезы.
Пленум обсуждал вопрос о Бухарине и Рыкове 23-24 февраля и, возможно, на утреннем заседании 25-го (точно не помню, но это не суть важно). Для того чтобы избежать общего голосования членов ЦК, Сталин предложил избрать комиссию , которой предстояло вынести окончательное решение по делу Рыкова и Бухарина. В комиссию вошли все члены Политбюро, от военных - И.Э. Якир , а также Мария Ильинична Ульянова и Надежда Константиновна Крупская , с целью косвенно прикрыть неслыханный произвол именем Ленина. Они уже испытали на себе власть Сталина, когда во время процесса Каменева и Зиновьева пытались их защитить и еле живыми вышли из кабинета Хозяина. Безусловно, итог работы комиссии был предрешен Сталиным.
Февральско-мартовский Пленум 1937 года (который для Бухарина и Рыкова был только февральским) продолжал свою работу. Но до оглашения постановления комиссии Бухарин, очевидно, и Рыков на заседаниях пленума не присутствовали и оставались около трех суток дома. Психологически Н.И. был готов к тому, что будет арестован и с жизнью придется расстаться. Тем не менее он, как никогда за эти мучительные месяцы "следствия", был собран. Надежду на оправдание при жизни он потерял и принял решение обратиться к потомкам: написать письмо будущему поколению руководителей партии - заявить о своей непричастности к преступлениям и просить о посмертном восстановлении в партии.
Мне было 23 года, и Н.И. был убежден, что я доживу до такого времени, когда смогу передать это письмо в ЦК. Но, будучи уверен, что письмо его будет изъято при обыске, и опасаясь, что в случае обнаружения его я буду подвергнута репрессиям (что я буду репрессирована независимо от письма, Н.И. не предвидел), он просил меня выучить письмо наизусть, чтобы иметь возможность рукописный текст уничтожить. Бухарин много раз шепотом читал мне свое письмо, а я должна была вслед за ним повторять, затем сама перечитывать и тихо повторять вслух. Ах, как он негодовал, когда я допускала неточность. Наконец, убедившись, что письмо я запомнила твердо, рукописный текст уничтожил. Бухарин писал свое последнее обращение к партии, последнее обращение к людям на небольшом столике в нашей комнате. На этом же столе лежала папка с письмами Ленина, адресованными Бухарину, которые он с большим волнением перечитывал перед арестом.
Ссылки: